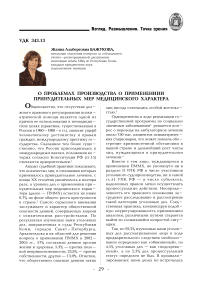О проблемах производства о применении принудительных мер медицинского характера
Автор: Бажукова Жанна Альбертовна
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Взгляд. Размышления. Точка зрения
Статья в выпуске: 2, 2008 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/140195855
IDR: 140195855 | УДК: 343.13
Текст статьи О проблемах производства о применении принудительных мер медицинского характера
О бщеизвестно, что отсутствие должного правового регулирования психиатрической помощи является одной из причин ее использования в немедицинских целях (практика, существовавшая в России в 1960-1980-е гг.), наносит ущерб человеческому достоинству и правам граждан, международному престижу государства. Сказанное тем более существенно, что Россия присоединилась к международным пактам, положения которых согласно Конституции РФ (ст.15) считаются приоритетными.1
Анализ судебной практики показывает, что количество лиц, в отношении которых применялось принудительное лечение, с конца ХХ столетия увеличилось в полтора раза, а уровень дел о применении принудительных мер медицинского характера (далее — ПММХ) остается не ниже 0,7% на фоне общего роста преступности в стране.2 Самого серьезного внимания заслуживает и характер общественной опасности деяний, совершаемых лицами с психическими расстройствами. По результатам изученных нами уголовных дел, направленных в суды Республики Коми, городов Санкт-Петербурга, Архангельска и их областей для решения вопроса о применении ПММХ в 20022005 гг., 57% составили деяния против жизни и здоровья, 5,3% — против половой неприкосновенности, 23,8% — против собственности, другие — 13,9%. Отметим, что общественно опасные деяния таких лиц иногда отличались особой жестоко-стью.3
Одновременно в ходе реализации государственной программы по социально значимым заболеваниям4 решается вопрос о переводе на амбулаторное лечение около 750 тыс. пациентов психиатрических стационаров, что может повлечь обострение криминогенной обстановки в нашей стране и дальнейший рост числа лиц, нуждающихся в принудительном лечении.5
Вместе с тем лицо, нуждающееся в применении ПММХ, не упомянуто ни в разделе II УПК РФ в числе участников уголовного судопроизводства, ни в самой гл.51 УПК РФ — в числе субъектов, наделенных правом лично осуществлять процессуальные действия. Неопределенность его правового положения затрудняет расследование и рассмотрение такой категории уголовных дел. Следственная практика, компенсируя подобную неурегулированность применением аналогии, различными путями старается выйти из сложившейся непростой ситуации.
Так, по 93,2% изученных нами уголовных дел рассматриваемое лицо в ходе предварительного следствия необоснованно определено как «обвиняемый», по 4,5% уголовных дел — как «подозреваемый», а по 2,3% дел процессуальный статус определен не был. В проанализированных нами делах не встречалась формулировка «лицо, совершившее запрещенное уголовным законом деяние», рекомендуемая в справочно-правовой литературе. Следственными органами этот участник процесса иногда именовался и как «невменяемый»6.
Терминологические неточности содержит и УПК РФ. Так, согласно ст.433 УПК РФ невменяемым это лицо признает только суд. Соответственно, судебное заседание не может начинаться с изложения прокурором доводов о необходимости применения ПММХ к лицу, которое признано невменяемым (ч.2 ст.441 УПК РФ).
Необходимо отметить, что ст.500 проекта УПК РФ определяла этого участника уголовно-процессуальной деятельности как «лицо, в отношении которого ведется дело о применении принудительных мер медицинского характера»7. Такая формулировка, подчеркивая его специфическое положение, не позволяет отождествлять его с обвиняемым (подозреваемым) и другими участниками уголовного процесса. К сожалению, действующая редакция УПК РФ содержит около 10 обозначений этого лица, что приводит к определенным затруднениям при толковании некоторых положений закона.
Как показала судебная практика, процессуальные документы по делам о применении ПММХ необоснованно переименовывались. К примеру, мы обнаружили «постановление об ознакомлении с результатами судебнопсихиатрической экспертизы защит-ника».8 В деле Ломоносовского федерального районного суда г. Архангельска в отношении Аншукова М.Н. имелся «протокол ознакомления защитника обвиняемого с заключением эксперта».9 По другим уголовным делам необходимые подписи этого особого участника процесса (его законного представителя) отсутствовали. Встречались документы, заверенные только следователем. Процессуальные акты, требующие подписи рассматриваемого лица, представлены были только адвокату.10
Согласно ч.3 ст.433 и ч.1 ст.441 УПК РФ производство о применении ПММХ осуществляется в порядке, установленном УПК РФ, с изъятиями, предусмотренными его главой 51. Однако в правоприменительной практике изъятия из общего порядка производства по уголовному делу в отношении лица, имеющего психические расстройства, толкуются как изъятия из его процессуального статуса, исключающие возможность личного участия в уголовном процессе. Сами лица после получения результатов судебно-психиатрической экспертизы (далее — СПЭ) утрачивают уголовно-процессуальную дееспособность, то есть становятся его объектом. Такая трактовка закона правоприменительной практикой не соответствует общепризнанным принципам и нормам международного права, международным договорам Российской Федерации, которые являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора (ч.4 ст.15, ч.1 ст.17 Конституции РФ). Соответственно, ч.3 ст.1 УПК РФ закрепляет, что общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью законодательства, регулирующего уголовное судопроизводство.
Согласно Международному пакту о гражданских и политических правах каждый имеет право при рассмотрении любого предъявляемого ему уголовного обвинения быть судимым в его присутствии и защищать себя лично (пп.«d» п.3 ст.14). Право каждого обвиняемого в совершении уголовного преступления защищать себя лично закреплено также Конвенцией о защите прав человека и основных свобод (пп.«с» п.3 ст.6).
Конкретизируя приведенные положения международно-правовых актов применительно к лицам, страдающим психическими расстройствами, Принципы защиты больных лиц и улучшения психиатрической помощи (приняты 17 декабря 1991 г. Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 46/119) предусматривают право любого психически больного лица на осуществление всех признанных международными нормами прав и прямо указывают на недопустимость какой-либо дискриминации, то есть установления в связи с психическим заболеванием лица таких отличий, исключений или предпочтений, следствием которых являются отрицание или ограничение равенства в реализации прав (п.п.4 и 5 Принципа 1).
Кроме того, по смыслу правовой позиции, сформулированной Конституционным Судом РФ в постановлении от 27 июня 2000 г. №11-П, при обеспечении процессуальных гарантий прав лицам, чьи права и законные интересы затрагиваются в ходе уголовного судопроизводства, необходимо исходить не только из формального наделения их соответствующим процессуальным статусом, но и, прежде всего, из сущностных признаков, характеризующих их фактическое положение.
Лицо, в отношении которого ведется производство о применении ПММХ, так же, как подозреваемый и обвиняемый по уголовному делу, по существу, уличается в совершении деяния, запрещенного уголовным законом. Поэтому такому лицу, хотя оно и не привлекается к уголовной ответственности, должны обеспечиваться равные с другими лицами, в отношении которых осуществляется преследование, процессуальные права, а именно: знать, в совершении какого запрещенного уголовным законом деяния его уличают, давать объяснения по обстоятельствам дела, заявлять ходатайства, участвовать в производстве следственных действий и судебном разбирательстве, приносить жалобы на действия и решения следователя, прокурора и суда, знакомиться с заключением экспертов и др.
В свою очередь, лишение лица, в отношении которого подлежат применению или применены ПММХ, возможности самостоятельно реализовывать свои про- цессуальные права, если психическое заболевание этому не препятствует, означает не согласующееся с конституционно значимыми целями, закрепленными в ч.3 ст.55 Конституции РФ, ограничение прав, гарантированных каждому ее ст.45 (ч.2) и ст.46 (ч.1).
Данный вывод корреспондирует постановлению Конституционного Суда РФ от 20 ноября 2007 г. №13-П, которым признаны неконституционными находящиеся в нормативном единстве статьи УПК РФ, не позволяющие рассматриваемым лицам лично знакомиться с материалами уголовного дела, участвовать в судебном заседании при его рассмотрении, заявлять ходатайства, инициировать вопросы об изменении и прекращении применения указанных мер и обжаловать принятые по делу процессуальные решения.
Сказанное существенно и для решения вопроса об участии рассматриваемого лица в следственных действиях. Данное лицо может отстраняться от участия в следственных действиях только по состоянию здоровья, о чем должно выноситься мотивированное постановление. Обоснованием такого решения могут служить протокол допроса эксперта-психиатра по обозначенному вопросу или результаты освидетельствования психиатром. В таком случае все процессуальные права этого лица корреспондируются его законному представителю (ст.437 УПК РФ).
Документом, устанавливающим факт психического расстройства, является акт СПЭ, который также должен содержать ответ о возможности участия лица в производстве следственных действий. К сожалению, из всех изученных нами уголовных дел только в ряде заключений СПЭ г. Архангельска инициативно было отражено мнение экспертов-психиатров по этому вопросу. Перед экспертами такая задача не ставилась, хотя следственными органами рассматриваемые лица отстранялись от участия в производстве следственных действий. На подобные нарушения органы прокуратуры реагировали лишь в исключительных случаях, что свидетельствует об упрощенном подходе при надзоре по такой категории дел.
Хотелось бы обратить внимание, что законодателем не определены и сроки вынесения постановления о назначении СПЭ, что способствует необоснованному затягиванию сроков предварительного расследования, препятствует достижению истины по делу, а в ряде случаев и своевременному получению медицинской помощи.
Так, по 35% изученных нами дел сроки предварительного расследования до года и более были продлены в связи с «длительным нахождением лица в болезненном состоянии». И только по 7% дел стационарные экспертизы были назначены и проведены своевременно.
Удивительно, но по ряду изученных нами дел период между возбуждением уголовного дела и вынесением судом постановления о применении принудительного лечения составляет до двух и более лет. К примеру, уголовное дело №2 -11/04 возбуждено 7 мая 2002 г. Лицо задержано и помещено в СИЗО 27 декабря 2002 г., в тот же день из допроса стало известно о наличии у него психического расстройства. Постановление о применении ПММХ вынесено только 9 января 2004 г.
Как показала практика, в большинстве случаев сомнения во вменяемости такого лица возникают уже на начальных этапах предварительного расследования. Так, по 47,4% изученных нами дел сведения о наличии у лица психического расстройства и инвалидности получены уже из его первого допроса. Эти данные подтверждались ответами из психоневрологических диспансеров. По 26,7% дел сведения установлены по запросам в медицинские психиатрические учреждения. И только в 25,9% случаев факт психического расстройства был впервые установлен актом СПЭ.
К сожалению, с момента получения данных о психической неполноценности лица до вынесения постановления о назначении СПЭ проходит, как правило, полгода и более, а по 12% дел такая экспертиза была назначена уже судом. Существуют и факты, когда должностные лица, ведущие расследование, игнорируют подобные сведения и направляют дела в суд с обвинительным заключением.
Так, по уголовному делу №2-182/03 Ломоносовского федерального районного суда г. Архангельска из допроса лица 31 мая 2002 г. были получены сведения, что оно находится на учете по психическому заболеванию, что подтверждено справкой из ПНД от 19 июня 2002 г. Однако уголовное дело было направлено в суд с обвинительным заключением. Только 27 ноября 2002 г. по ходатайству прокурора судом было принято решение о назначении СПЭ. Постановление о применении ПММХ вынесено 15 апреля 2003 г.
Анализ изученных нами дел показал, что основным видом проведенных СПЭ, или 78,6% от общего количества назначенных, явились стационарные и комплексно-стационарные экспертизы. Амбулаторный вид составил только 21,4% и, как правило, по общественно опасным деяниям против собственности и личности.
Таким образом, наличие проверенных следователем и отраженных в материалах дела обстоятельств, подтверждающих психическое расстройство лица, совершившего деяние средней тяжести или особо тяжкое, предопределяет стационарный вид экспертизы. Очевидно, что право «знакомиться с постановлением о назначении экспертиз и их заключениями» распространяется и на такой вид экспертиз, как судебно-психиатрическая. Вместе с тем лица (их законные представители) не имели возможности воспользоваться этим правом, как следует из анализа изученных нами дел.
Построение правового государства предполагает активную защиту граждан от преступлений, а при совершении таковых – обеспечение интересов потерпевших в ходе судопроизводства. Однако средства такой защиты, имеющиеся в действующем законодательстве, в основном рассчитаны на потерпевших от преступлений, а не от запрещенных уголовным законом деяний, совершенных лицом, имеющим психические расстройства.
Так, до последнего времени в законодательстве, теории и на практике проблему возмещения имущественного вреда, причиненного деянием, совершенным данным лицом, традиционно оставляли без внимания. Между тем анализ правовых норм показал, что для обоснованного и быстрого разрешения гражданского иска в уголовном судопроизводстве имеются все необходимые условия.
Как известно, в отношении лиц, совершивших запрещенное уголовным законом деяние в состоянии невменяемости, осуществляется уголовное судопроизводство (ч.3 ст.433 УПК РФ). При этом производятся процессуальные действия, принимаются правовые решения и при наличии на то оснований судом могут приниматься такие меры государственного принуждения, как принудительное лечение. Порядок судопроизводства о применении ПММХ определяется общими процессуальными правилами и нормами, специально предусмотренными законодателем для данной категории дел (гл.51 УПК РФ). Кроме того, ни одна процессуальная норма не запрещает рассматривать гражданский иск в рамках уголовного дела по такому производству. Напротив, действующее законодательство прямо или косвенно указывает на то, что гражданский иск может быть рассмотрен в этом уголовном деле.
Так, в соответствии с п.3 ч.2 ст.434 УПК РФ к обстоятельствам, подлежащим доказыванию по делам рассматриваемой категории, законодатель относит «характер и размер вреда, причиненного деянием». В случае материального ущерба для выполнения этой обязанности и обоснованного разрешения гражданского иска большое значение имеет обеспечение активного участия в деле гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей. Именно поэтому нормы об особенностях производства по делам рассматриваемой категории, как мы полагаем, не предусматривают каких-либо изъятий из общих правил об участии в деле названных участников процесса, каких-либо ограничений их процессуальных прав.
Вступившее в законную силу постановление суда о применении принудительных мер медицинского характера так же обязательно и для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях деяния, как и приговор в части доказанности общественно опасного деяния и совершения его конкретным лицом. Важно отметить, что доказанным признается не совершение деяния вообще, а совершение деяния, запрещенного уголовным законом, в состоянии невменяемости конкретным лицом. Не выходя за пределы своих полномочий, суд при рассмотрении гражданского иска не вправе признать лицо невменяемым, изменить квалификацию содеянного и причиненный вред. Следовательно, в гражданском судопроизводстве гражданские истцы, гражданские ответчики и их представители не могут оспаривать ранее принятые и вступившие в законную силу постановления о психическом состоянии лица, о совершении им запрещенного уголовным законом деянии, о наличии и размере ущерба, то есть фактически лишаются возможности защищать свои законные интересы. В уголовном же деле по производству ПММХ есть все необходимые условия для обоснованного и быстрого разрешения по существу гражданского иска, для обеспечения прав и законных интересов всех участников уголовного судопроизводства.
Однако только по 7% изученных нами дел были заявлены гражданские иски. По 33% дел иски были удовлетворены за счет лиц, проходивших по одному уголовному делу с лицом, признанным судом невменяемым. В остальных случаях, к сожалению, гражданские иски судами были проигнорированы, гражданские истцы в судебные заседания не приглашались, право на рассмотрение иска в гражданском порядке не разъяснялось.
Освобождение суда от обязанности разрешать гражданский иск в уголовном деле о применении ПММХ концентрирует все его внимание на решении вопроса о вменяемости-невменяемости лица и назначении соответствующей меры медицинского характера в ущерб правам всех остальных участников процесса. Такой подход, на наш взгляд, может привести к принятию незаконного и необоснованного решения по делу в целом.
Сказанное убеждает нас в том, что вопрос о возмещении материального ущерба, причиненного лицом, совершившим запрещенное уголовным законом деяние в состоянии невменяемости, должен рассматриваться в общем порядке.11
В завершение хотелось бы отметить, что установленные нами в процессе обобщения практики ошибки при реализации норм УПК РФ являются результатом отсутствия четкой регламентации производства по рассматриваемой категории дел. Теоретические и практические проблемы правового регулирования принудительных мер медицинского характера требуют дальнейшего пристального внимания законодателя.
Список литературы О проблемах производства о применении принудительных мер медицинского характера
- Колмаков, П. Некоторые проблемы производства по применению принудительных мер медицинского характера / П.Колмаков, Ж.Бажукова // Уголовное право. - 2006. - №6. - С.73; Сверчков, В. Принудительные меры медицинского характера / В.Сверчков // Законность. - 2000. - №7. - С.31-33.
- Уголовное дело № 2-106/04//Архив федерального городского суда Санкт-Петербурга.
- О Федеральной целевой программе «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы): постановление Правительства РФ от 10 мая 2007 г. №280.
- Россия лидирует по числу психических расстройств [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://newsru.com/Russia/30jan 2007 russkipsihi.html.
- Дело № 129350/02//Архив Верховного Суда Республики Коми.
- Колмаков, П.А. Об основаниях появления нового участника уголовного судопроизводства/П.А.Колмаков//Уголовное право. -2004. -№ 3. -С.87-89.
- Дело № 2-9/03//Архив Ленинградского областного суда.
- Дело № 1-138/03//Архив Ломоносовского федерального районного суда г. Архангельска.
- Дело № 1-255/03//Архив Ломоносовского федерального районного суда г. Архангельска.
- Пономарев, Г. Возмещение материального ущерба, причиненного общественно опасным деянием невменяемого/Г.Пономарев, В.Никандров//Советское государство и право. -1988. -№22. -С.12-14.
- Николюк, В.В. Уголовно-процессуальная деятельность по применению принудительных мер медицинского характера: учебное пособие/В.В.Николюк, В.В.Кальницкий. -Омск, 1990. -С.21-24.
- Колмаков, П.А. Проблемы правового регулирования принудительных мер медицинского характера/П.А.Колмаков. -Сыктывкар, 2001. -С.178-179.
- Тетерина, Т.В. Гражданский иск в уголовном судопроизводстве/Т.В.Тетерина//Сборник научных трудов юридического факультета. Вып. 4/отв. ред. проф. П.А.Колмаков. -Сыктывкар, 2005. -С.55-57 и др.