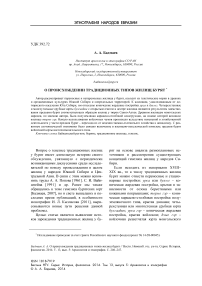О происхождении традиционных типов жилищ бурят
Автор: Бадмаев Андрей Андреевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Этнография народов Евразии
Статья в выпуске: 5 т.13, 2014 года.
Бесплатный доступ
Автор рассматривает переносные и непереносные жилища у бурят, находит их генетические корни в древних и средневековых культурах Южной Сибири и сопредельных территорий. К жилищам, унаследованным от дотюркского населения Юга Сибири, им отнесены конические жердевые постройки урса и бухээг. Четырехстенные и многоугольные срубные юрты булгааhан с открытым очагом в центре жилища являются результатом заимствования предками бурят соответствующих образцов жилищ у тюрок Саяно-Алтая. Древним жилищем монгольских народов, по мнению автора, была полуземлянка каркасно-столбовой конструкции, на основе которой возникло жилище тормо гэр. Начало использования войлочных чумов произошло вследствие изменений в хозяйственной деятельности у части предков бурят - перехода их от ведения таежно-охотничьего хозяйства к номадизму. С развитием скотоводческой экономики было связано включение в жилищно-поселенческий комплекс предков бурят войлочной юрты восточномонгольского типа.
Байкальский регион, буряты, традиционное жилище, генезис
Короткий адрес: https://sciup.org/147219100
IDR: 147219100 | УДК: 392.72
Текст научной статьи О происхождении традиционных типов жилищ бурят
Вопрос о генезисе традиционных жилищ у бурят имеет длительную историю своего обсуждения, увязанную с периодически возникающими дискуссиями среди исследователей по поводу происхождения в целом жилищ у народов Южной Сибири и Центральной Азии. В связи с этим можно вспомнить труды А. А. Попова [1961]. С. И. Вайнштейна [1991] и др. Ранее мы также обращались к теме генезиса бурятских юрт [Бадмаев, 2007], но в свете вышедших в последнее время публикаций, в особенности монографии И. Л. Кызласова [2011], вырисовываются новые пути решения данной проблемы.
Целью статьи является выявление истоков зарождения традиционных жилищ у бу- рят на основе анализа разноплановых источников и рассмотрения существующих концепций генезиса жилищ у народов Сибири.
Если исходить из материалов XVIII– XIX вв., то к числу традиционных жилищ бурят можно отнести переносные и стационарные постройки: урса или бухээг – коническая жердевая постройка, крытая в зависимости от сезона берестяными или кожаными покрышками; тормо гэр – коническая каркасно-столбовая постройка полу-земляночного типа, крытая досками; четырехстенная или многостенная срубная юрта булгааhан; урса гэр – коническая жердевая постройка, крытая войлоком; hэые гэр – войлочная решетчатая юрта монгольского типа. Происхождение каждого из упомянутого типов жилищ уходит корнями в предшествующее формированию бурят время.
Необходимо обратить внимание на присутствие в языке бурят двух терминов – урса и бyхээг , обозначающих круглое в основании каркасное сооружение конической формы. Согласно данным С. Г. Жамбало-вой, в языке курумканских, окинских, ка-чугских и ольхонских бурят такое жилище называли урса , а у эхиритов, булагатов и качугских бурят – бyхээг [1991. С. 75]. Иначе говоря, жилище урса локализовалось у части предбайкальских и присаянских бурят (по нашим сведениям, ареал его распространения у присаянских бурят был шире и охватывал не только окинских, но и тун-кинских и закаменских бурят), а жердевые постройки бyхээг были известны только у предбайкальских бурят. Отметим, что при различии в названии речь все же идет о жилище одного типа. По материалам М. Н. Хан-галова, бyхээг являлся временным сооружением, жердевой каркас которого при перекочевке оставлялся на месте, а покрышки увозились с собой [1958. С. 206]. Особенностью данного жилища было использование, в соответствии с сезоном, покрышек, сшитых из разных материалов: зимой из кожи, летом из бересты.
Словесные формы, близкие по произношению названию бурятского чума урса, фиксируются в языках ряда тюркских народов Сибири (якутов, сойотов и др.) и эвенков, что, по всей видимости, доказывает архаичность этого жилища. О. В. Ионова выводит название якутского чума от слова ураhа ‘шест’ [1952. С. 251], аналогично в бурятском языке слово урса может считаться производным от урга ‘шест’ [Бурятско-русский словарь, 1973. С. 474]. По поводу происхождения данного жилища она, а вместе с ней и некоторые другие исследователи, поддерживают идею о его южносибирских корнях [Ионова, 1952. С. 251; Константинов, 1971. С. 151]. Действительно, такой чум имеет определенное типологическое сходство с крытой корой лиственницы конической жердевой постройкой алачик, известной у народов Саяно-Алтая (алтайцев, хакасов и др.). То, что конические чумы были характерны для быта не только тюрок Южной Сибири, но и средневековых монголов, можно вынести из текста «Сокровенного сказания», в котором, например, упоми- нается бытование у последних чума алачуг [Вайнштейн, 1991. С. 58]. Показательно созвучие названий жилищ у тюрок и монголов. Археологи рассматривают в качестве далекого прототипа алачик жилища конической формы, получившие распространение в лесостепной зоне юга Сибири на переходном тагаро-таштыкском этапе и отличавшиеся многостолпностью [Кызласов, 2011. С. 72]. Таким образом, конический чум сохранился у бурят Предбайкалья и Восточного Присаянья как реликт культуры дотюрк-ского населения Южной Сибири.
Переносная коническая постройка урса гэр, покрываемая войлоком, символизирует следующий этап в развитии хозяйства и культуры предков бурят. По М. Н. Хангало-ву, такие жилища появились позднее чумов, крытых кожей или берестой, и были связаны с переходом монголоязычного населения Предбайкалья к преимущественному занятию скотоводством. Он определяет время, когда протекал этот процесс, следующим образом: «Позднее, в период большого общинного скотоводства, малого родового скотоводства и в начале частного скотоводства» [1958. С. 106]. Если войлочные жердевые постройки монголов (овохой), калмыков (джолум) и тувинцев (чадыр) являли собой купол юрты, установленный шестами на землю, то бурятское жилище урса гэр было без светодымового круга; его стеновые шесты, подобно калмыцкой жердевой постройке дегля гер [Эрдниев, 1970. С. 129], в верхней части соединялись и их острия торчали наружу. Той же конструкции был войлочный чум у конных эвенков, которые мигрировали в Восточное Забайкалье из Маньчжурии в конце XVII в. В этом можно убедиться, прочитав описание, приведенное в дневниковых записях И. Идеса: «Они (конные эвенки. – А. Б.) живут в хижинах, которые на своем языке называют юртами. Каркас юрты делается из деревянных шестов, которые прочно скреплены между собой; когда тунгусы перекочевывают, что делают часто, они собирают эти шесты и увозят. Деревянный каркас обшивают снаружи войлоком или покрывают дерном и лишь наверху оставляют дыру для выхода дыма» [Идес, Бранд, 1967. С. 152]. На первый взгляд данный тип переносного жилища может представлять модификацию известных у народов Восточной Сибири (эвенков и др.) кожаных чумов, приспособ- ленных к условиям скотоводческого образа жизни. Однако, обратившись к широкому историческому материалу, обнаруживаем первые прототипы таких чумов у ранних кочевников Восточной Европы (скифов и др.) [Вайнштейн, 1991. С. 47], что очевидно указывает на длительную историю их существования и заимствование как раз от степных скотоводов.
Полуземлянка тормо гэр являлась стационарным каркасным жилищем: М. Н. Хан-галов характеризует ее как слегка углубленное в землю конусовидное сооружение, имевшее четыре опорных столба, в верхней части соединенных поперечными перекладинами, на которые укладывали доски так, что вверху получалось дымовое отверстие [1958. С. 106]. По представлению Б. Б. Да-шибалова, прототипом тормо гэр может считаться каркасное жилище полуземля-ночного типа средневековых курыкан [1995. С. 138]. Появление жилых построек каркасно-столбовой конструкции в Байкальском регионе связывают с продвижением туда в первые века нашей эры монголоязычных племен (данный процесс был связан с установившимся господством в Центральной Азии монголоязычных сяньби, а затем жу-жаней), которые позднее вошли в курыкан-скую общность. Учитывая не типичность таких полуземлянок в целом для тюркоязычного населения Южной Сибири, можно предположительно рассматривать их в качестве древнемонгольского жилища. Вероятно, в хуннскую эпоху (в пору проживания на Амуро-Хинганской прародине – легендарной стране Эргунэ-кун) монголоязычные общности уже были знакомы со столбовой технологией и применяли ее при строительстве жилищ.
Предположение о былом распространении в Предбайкалье плоскокровельных четырехстенных срубных жилищ, представлявших наследие дотюркской культуры Южной Сибири (самоедо- и угроязычных общностей), высказывает И. Л. Кызласов, который свое суждение строит на данных лингвистики. У части предбайкальских бурят «черная» изба именовалась тур или соол. Этими же словами в языках тюрок Саяно-Алтая обозначались соответственно однокамерный рубленый дом с плоской кровлей и чувал, который обогревал его. Однако археологических находок, подтверждающих данную версию, нет, более того, не существует этнографических сведений о бытовании когда-либо у бурят субрегиона такого типа жилища, отапливаемого боковым чувалом. Вероятно, причина возникшей у бурят ассоциации русской «черной» избы с жилищем тура народов Саяно-Алтая заключалась в общих чертах, имевшихся у обоих типов жилищ, в частности в отличном от юрты расположении очага и наличии полатей. В то же время нельзя отбрасывать версию о возможном переселении каких-то тюркоязычных общностей из Саяно-Алтая в Предбайкалье и последующее их участие в этногенезе бурят субрегиона. В этом случае подобного рода жилище имело локальное распространение и со временем могло быть забыто. В пользу сказанного может свидетельствовать общее функциональное назначение известных у предбайкальских бурят плотницких топоров тарбагай (сарба hyхэ) со смещенным вправо лезвием, которые служили для обработки внутренней стороны венцов сруба, и, например, топоров обских угров. Буряты применяли такие топоры, когда соединяли венцы вязкой «в обло», которая, как считается, представляет дотюрк-скую традицию рубки [Кызласов, 2011. С. 78].
Некоторые сведения, относящиеся к рассматриваемой проблеме, дают данные археологии Западного Забайкалья, например исследование Е. А. Хамзиной могильников хойцегорского типа (VII–X вв.) [1970]: погребальный ритуал Баянгольского могильника (в частности, захоронение человеческих останков в четырехугольных деревянных рамах из брусков) имеет определенную аналогию с похоронной традицией, отмечаемой в археологических культурах раннего железного века Саяно-Алтая. Если исходить из обоснованного археологами положения, что население Южной Сибири указанного времени жилищам уподобляли подземные, затем наземные погребальные постройки, а также из невозможности сохранения в целости наземных деревянных сооружений по истечении многих веков, то мы не можем исключать вероятность существования в период доминирования тюрок в степях Центральной Азии плоскокровельных четырехстенных жилищ в Западном Забайкалье.
Срубное жилье у бурят было представлено четырех- и многостенными юртами. Русские письменные источники позволяют говорить об их бытовании в Байкальском регионе самое раннее в первой половине XVII в. Между тем отсутствие материальных следов в предшествующий указанному времени период вынуждает строить гипотетические предположения об их генезисе.
Появление срубных юрт у предков пред-байкальских бурят, по В. А. Михайлову, было вызвано в первую очередь социальноэкономическими причинами: установлением у них военной демократии; переходом к форме скотоводства, при которой стационарные зимники превращались в постоянные поселения, где возводились жилые и хозяйственные постройки капитального типа. Конечно, такое объяснение носит умозрительный характер и нуждается в конкретизации. Согласно китайским династийным хроникам, военно-потестарной организацией обладали еще курыканы, у которых к тому же сложилось полуоседлое скотоводство (некоторые авторы даже допускают оседлый характер хозяйства части курыкан), но, тем не менее, не было четырех- и многостенных срубных строений.
На наш взгляд, только с заимствованием соответствующего строительного опыта, включая знания о древесном сырье, сроках и условиях его заготовки, с появлением минимально необходимого плотницкого инструментария, с приобретением в глазах протобурят престижности указанных выше типов срубных жилищ, и был возможен переход их основной массы (полуоседлых и полукочевых) от полуземляночных каркасно-столбовых жилищ к срубным юртам. Аргументация в пользу того, что причиной такого перехода являлась смена хозяйственнокультурного типа или упадок овцеводства (на чем настаивал ряд авторов [Бамбаев, 1929. С. 16; Попов, 1961. С. 159; Турунов, 1922. С. 16]), основывается в конечном счете на определяющем влиянии изменений климата на хозяйственную деятельность людей. Но дело в том, что в голоцене заметных изменений климата в Байкальском регионе не происходило, и с этим, кстати, было связано сохранение в Предбайкалье в течение более тысячелетия (начиная примерно с VI в.) комплексного хозяйства.
По поводу происхождения имеющих дарбазную кровлю квадратных и многоугольных жилищ южносибирских тюрок наиболее убедительной является гипотеза И. Л. Кызласова, базирующаяся на анализе, прежде всего, археологических материалов.
Согласно этой гипотезе, квадратные срубные постройки с пирамидальной крышей и открытым очагом по центру жилища впервые стали возводиться в тагарско-таштык-ский переходный этап (II–I вв. до н. э.), а многоугольные столбовые и срубные постройки с купольно-шатровым перекрытием – в таштыкскую культуру (III–IV вв.) [2011]. И. Л. Кызласов отрицает заимствование южносибирскими тюрками многоугольных срубных жилищ у бурят, а вместе с этим и происхождение такого жилья от войлочной юрты 1. Он полагает, что эти жилища являлись наследием тюркоязычного населения, которое было монголизировано и вошло в состав бурят и северных монголов [Там же. С. 87].
С чем можно спорить, так это с его утверждением, что многоугольные бревенчатые постройки были «чужды домостроительству всех иных монголоязычных <…> народов» [Там же. С. 85]. Данный тезис опровергается этнографическими материалами, которые свидетельствуют о том, что у южномонгольских народов, в частности чахаров, все же были распространены бревенчатые юрты 2.
Приводимая И. Л. Кызласовым доказательная база убеждает в том, что территорией, откуда могла распространиться традиция возведения четырех- и многостенных срубов, был Саяно-Алтай. Надо думать, что данная традиция попала в Предбайкалье к курыканам от тюркского населения сопредельной Минусинской котловины. Хронологически это могло произойти в период господства енисейских кыргызов в Центральной Азии и в последний этап существования курумчинской культуры (до ухода на север части курыкан, давших начало якутскому народу), т. е. в конце IX – X в. Возможно, в ходе экспансии енисейских кыргызов некоторые тюркоязычные сообщества Среднего Енисея оказались в пред-байкальском субрегионе. Доказательством тому может являться присутствие в составе предбайкальских бурят родов, имеющих этнонимы, встречающиеся у саяно-алтайских тюрков (буруты и др.). Именно через них и могла быть получена технология строительства четырех- и многостенных срубных жилищ.
Вероятно, в X – начале XIII в., когда границы страны Баргуджин-Тукум, этническое ядро населения которой составляли монгольские племена, в том числе протобуряты, расширились, охватив центр Западного Забайкалья, Прибайкалье и Предбайкалье, срубная и каркасно-столбовая технологии строительства еще синхронно сосуществовали.
Приход значительных масс монголоязычных кочевников в Байкальский регион не мог не изменить направленность местной экономики. Так, эхириты, булагаты, урсуты и баргуты, входившие в единый союз племен с хори-туматами и ойратами, вели полукочевой (скотоводческий) и полуосед-лый (скотоводческо-земледельческий) образ жизни. Полуоседлые насельники региона в хозяйственной деятельности имели черты преемственности от культур курыкан и байырку (ареал расселения которых охватывал центральную часть Западного Забайкалья), частью ассимилированных новой более мощной, чем прежде, волной монголов-мигрантов, а частью еще сохранявших обособленное существование и свои этнические черты.
Появление бурятских срубных юрт предполагало эволюцию изначальных образцов жилищ, воспринятых у тюрков Саяно-Ал-тая; к таковым, вероятно, относились юрты, имеющие пирамидальную и висячую стропильную конструкции кровли. В то же время многостенные срубные юрты с кровлей, опирающейся на несущие столбы, вкопанные по углам очажной площадки, могут рассматриваться как собственное изобретение бурят. Они в отличие от юрт, имевших иную конструкцию кровли, были самыми массовыми. Допустимо предположить, что на основе полуземлянок каркасно-столбовой конструкции и воспринятых у енисейских кыргызов квадратных и многостенных срубных жилищ и были созданы юрты с указанной выше кровлей. Кровля, лежащая на несущих столбах, применялась прежде при возведении полуземлянок каркасностолбовой конструкции, а новшеством, превратившим юрты в капитальное строение, была сборка их стен в сруб с использованием угловых сопряжений. Связав воедино эти два элемента, предки бурят получили совершенно новый тип жилища. Очажная площадка представляла сакральный и ритуальный центр жилого пространства у протобурят; она в неизменном виде перешла в срубные юрты из каркасно-столбовой полуземлянки. На новое жилище были перенесе- ны все прежние воззрения о духах-покровителях домашнего очага и, соответственно, стали совершаться связанные с ними обрядовые действия.
По поводу выраженного И. Л. Кызласо-вым мнения о происхождении бурятских юрт с опорными столбами от саяноалтайских образцов [2011. С. 85] нужно сказать следующее. Хотя, как доказывает уважаемый автор, в хакасских берестяных и бревенчатых столбовых жилищах встречались примеры установки одного центрального или четырех опорных столбов, в срубных жилищах иб таких опор не было. В целом, следует говорить о древних корнях применения в архитектуре жилищ несущих столбов и об универсальности этого явления в культурах разных народов. Кроме того, центральный столб в жилище хакасы устанавливали наклонно, что наводит на мысль об ином его назначении, чем выполнение функции несущей основы кровли; наконец, конструкция кровли в бурятской юрте рассматриваемого типа заметно отличается от кровли хакасского жилища, называемого «иб».
Как показывает исторический материал, у войлочной юрты восточномонгольского подтипа, получившей распространение у бурят, также имелись предшественники в Юго-Восточной Сибири. Отсчет существования войлочных переносных жилищ в регионе следует начинать от позднего бронзового – раннего железного века: по А. П. Окладникову, войлочные цилиндрические жилища в Предбайкалье были уже известны у носителей культуры плиточных могил [Румянцев, 1962. С. 94]; по С. И. Вайнштейну, ранним прототипом юрты послужило хуннское жилище [1991. С. 57]. Подчинившие динлинов хунну (II в. до н. э. – II в. н. э.) пользовались крытыми войлоком неразборными куполообразными шалашами с полусферическим остовом, кровля которых завершалась вытянутой шейкой дымохода. Отметим, что хуннская традиция юрт с шейкой сохранялась у монголов до середины XIII в. Описание таких жилищ приводится в известном сочинении Гильома Рубрука [1957]. Сменившие хунну в Юго-Восточном Забайкалье и СевероВосточной Монголии сяньби первыми стали ориентировать вход на юг и юго-восток. В последующее время эта традиция приобрела у монгольских народов этнодифференцирующий характер. Монголоязычные жужани, в конце IV в. захватившие, в частности, территорию Забайкалья, обитали тоже в войлочных юртах. Судя по манхай-ским и шишкинским петроглифам (Пред-байкалье), курыканы пользовались наряду с полуземлянками каркасно-столбовой конструкции войлочными жилищами как разборного, так и неразборного (устанавливаемые на телеги) типа.
Подлинный прорыв в строительстве войлочных жилищ был сделан орхонскими тюрками, которые изобрели разборную решетчатую юрту с полусферическим куполом [Вайнштейн, 1991. С. 50]. В дальнейшем на основе тюркской юрты была создана войлочная юрта монгольского типа с коническим куполом и расписными деревянными дверьми, которая в результате развития стала подразделяться на два подтипа: восточномонгольский и западномонгольский. Согласно «Сокровенному сказанию», у монголов Чингисхана имелось шесть типов жилищ [Там же. С. 58], три из которых точно были войлочные: неразборное жилище хуннского типа на телегах ( кер тэрген ), разборная решетчатая юрта тюркского типа ( чорган кер )? дворцовое жилище ( ордо кер ). Надо полагать, что в первых двух разновидностях войлочного жилища могли жить и полукочевые номады Байкальского региона. Заметим, что в XII–XIII вв. монгольскими племенами были переняты более совершенные киданьские юрты на телегах, но использовало ли их население Байкальского региона, за отсутствием сведений не беремся утверждать.
Разборные и неразборные (на телегах) юрты фиксировались русскими у предков бурят в первой половине XVII в. Здесь следует сослаться на выводы, сделанные В. А. Михайловым в ходе изучения русских письменных источников указанного времени («сказок», «отписок» и др.). При этом выясняется, что если для части бурятоязычных общностей Предбайкалья и Западного Прибайкалья была характерна лишь одна разновидность войлочной юрты (готолам, хори-бурятам, батулинцам), то другим – сразу две (булагатам). Кроме того, неразборные юрты фигурировали как жилище автохтонов Предбайкалья, каковыми являлись булагаты и готолы, входившие в була-гатское племенное объединение, а переносные юрты – представителей хори-бурятской общности (хори-бурят и родственных им батулинцев), в большинстве своем являвшихся вынужденными мигрантами из Восточной Монголии. Отсюда следует, что архаичный в изучаемое время образец войлочной юрты сохранялся в быту коренных насельников субрегиона, а более прогрессивный – бывших жителей степной зоны Центральной Азии. В случае с булагатами надо полагать, что они заимствовали переносную юрту у хори-бурят или каких-то иных групп, мигрировавших из Монголии. Очевидно, не все булагаты жили в войлочных юртах, а лишь те из них, кто был занят полукочевым скотоводством. То, что хори-буряты и батулинцы обитали в разборных юртах, можно заключить, например, из следующего факта: в 1644 г. приольхонские хори-буряты, узнав о готовящемся на них нападении со стороны верхоленских казаков и служилых, в одну ночь «испометали войлоки с изб» и скрылись от преследователей [Сборник документов…, 1960. С. 51]. Вероятно, во второй половине XVII в. неразборные войлочные жилища вышли из употребления, так как упоминания о них исчезают из русских письменных источников.
Итак, рассмотрев традиционные жилища бурят, можно заключить, что они находят истоки в древних и средневековых культурах Южной Сибири и сопредельных территорий. Отмечается их связь с разным в этническом и хозяйственном отношении населением: конические жердевые постройки ведут свое начало от жилищ дотюркского населения Южной Сибири; четырехстенные и многоугольные срубные жилища с открытым очагом в центре жилища появляются вместе с заселением южносибирского региона тюркоязычными народами; полуземлянки каркасно-столбовой конструкции представляют древнее жилище монгольских народов; войлочные чумы начинают использоваться после перехода части предков бурят от таежно-охотничьего быта к скотоводству; войлочная юрта восточномонгольского типа заимствована предками бурят у восточных монголов и также была известна у той их части, кто был занят полукочевым скотоводством.
Список литературы О происхождении традиционных типов жилищ бурят
- Бадмаев А. А. Традиционные жилища бурят: проблема генезиса // Проблемы истории, филологии, культуры. М.; Магнитогорск, 2007. Вып. 28. С. 312-324.
- Бамбаев Б. Б. К вопросу о происхождении бурят монгольского народа. Верхнеудинск, 1929. 21 с.
- Бурятско-русский словарь /Cост. К. М. Черемисов. М.: Сов энциклопедия, 1973. 804 с.
- Вайнштейн С. И. Мир кочевников центра Азии. М.: Нау ка, 1991. 296 с.
- Дашибалов Б. Б. Археологические памятники курыкан и хори. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 1995. 191 с.
- Жамбалова С. Г. Традиционная охота бурят. Новосибирск: Наука, 1991. 175 с.
- Идес И., Бранд А. Записки о русском посольстве в Китай (1692-1695). М.: Гл. ред. вост. лит., 1967. 404 с.
- Ионова О. В. Жилые и хозяйственные постройки якутов (историко-этнографический очерк) // Сибирский этнографический сборник. М.; Л., 1952. Т. 1. С. 239-287.
- Константинов И. В. Материальная культура якутов XVIII века (по материалам погребений). Якутск: Якут. кн. изд-во, 1971. 212 с.
- Кызласов И. Л. Алтаистика и археология. М., 2011. 256 с.
- Михайлов Т. М. Из истории поселений идинских бурят // Из истории хозяйства и материальной культуры тюрко-монгольских народов. Новосибирск: Наука, 1993. С. 36-52.
- Попов А. А. Жилище // Историко-этнографический атлас Сибири. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1961. С. 131-226.
- Рубрук Г. Путешествие в восточные страны. М.: Гос. изд-во геогр. лит., 1957. 270 с.
- Румянцев Г. Н. Происхождение хоринских бурят. Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1962. 265 с.
- Сборник документов по истории Бурятии. XVII в. Улан-Удэ: Тип. Мин. культуры БурАССР, 1960. Вып. 1. 494 с.
- Турунов А. Н. Прошлое бурят-монгольской народности: Популярный историко-этнологический очерк. Иркутск, 1922.
- Хамзина Е. А. Археологические памятники Западного Забайкалья. Улан-Удэ, 1970. 140 с.
- Хангалов М. Н. Собр. соч. Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1958. Т. 1. 551 с.
- Эрдниев У. Э. Калмыки (конец XIX - начало XX в.). Историко-этнографические очерки. Элиста: Калм. кн. изд-во, 1970. 312 с.