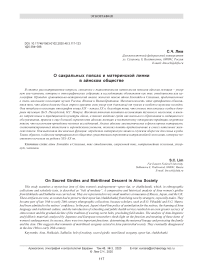О сакральных поясах и материнской линии в айнском обществе
Автор: Лим С.Ч.
Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: 3 т.48, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с таинственными нательными поясами айнских женщин - упсор кут или чахчанки, которые в этнографических собраниях и исследованиях обозначают как пояс стыдливости или целомудрия. Проведен сравнительно-исторический анализ женских поясов айнов Хоккайдо и Сахалина, представленных в очень маленьких коллекциях музеев России, Японии и Великобритании. Малочисленность этих артефактов объясняется тем, что айнки должны были строго хранить свои упсор кут (чахчанки) от чужих и особенно мужских взглядов. Они попадали в коллекции этнографов конца XIX - начала XX в. благодаря тому, что ученые пользовались особым доверием туземцев (Б.О. Пилсудский, Н.Г. Манро). Жесткая японская политика ассимиляции туземного населения, а именно запрет языка и традиционной культуры айнов, а также введение среди них школьного образования и медицинского обслуживания, привели к еще большей скрытности айнских женщин и постепенному отмиранию традиции секретных поясов, что исключает проведение полевых исследований. Анализ айнских лингвистических и фольклорных материалов, систематизированных японскими и европейскими учеными, позволил понять предназначение и смысл нательных женских поясов. Они выполняли две важные функции: определяли материнскую линию и служили оберегом для семьи и рода. Таким образом, в айнском патриархальном обществе существовали пережитки матрилинейной экзогамии, которые постепенно исчезали на рубеже XIX-XX вв.
Айны хоккайдо и сахалина, пояс стыдливости, сакральный пояс, матрилинейная экзогамия, упсор-кут, чахчанки
Короткий адрес: https://sciup.org/145146007
IDR: 145146007 | УДК: 394+396 | DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.3.117-123
Текст научной статьи О сакральных поясах и материнской линии в айнском обществе
Междисциплинарный подход к изучению материальной культуры айнов, используемый в нашей работе, позволяет понять и другие стороны традиционной жизни народа. В исследованиях и каталогах музеев России, Японии и Великобритании нательные пояса айнских женщин ( упсор кут на Хоккайдо или чахчан-ки на Карафуто) обозначаются как «пояс стыдливости» или «пояс целомудрия» [Ainu collections…, 1998, p. 20–21, 62, 96]. Но в сахалинском каталоге Б.О. Пилсудский оформляет один из них как «пояс для регул. МПК 904-18» [Каталог…, 1991, с. 21]. Киндаити Кёсукэ тоже называет их менструальными поясами, которые передаются по наследству по женской линии [Tate, 2005, p. 231]. Может быть, это связано с тем, что на Хоккайдо айнские матери повязывают упсор кут на живот дочерям после наступления менструации [Айну сэйкацу си…, 1984, с. 210].
Пояса из коллекции Б.О. Пилсудского, которые хранятся в Кунсткамере в Санкт-Петербурге и которые японские ученые называют нательными (нижними) – сита химо или чахчанки , внешне отличаются от упсор кут Хоккайдо. Последние представляют собой веревочные пояски различного плетения с кусочками ткани на концах. Нательные пояса сахалинских айнок ( чахчанки) выделяются на их фоне более сложной формой: на передней их части пришивался треугольный или трапециевидный красочно вышитый кусок ткани. Л.Я. Штернберг обращает внимание на то, что айны заимствовали у гиляков (нивхов) «некоторые элементы орнамента» [Штернберг, 1933, с. 559]. Копии красивых сахалинских поясов появлялись в сувенирных лавках Хоккайдо в 1970-х гг. [Ха-гинака Миэ, 1992, с. 128–129].
В своей работе мы выбрали для упсор кут и чахчан-ки определение «сакральные пояса» – sacred girdles , данное Н.Г. Манро в 1934 г., т.к. эти предметы были не только тайным знаком родства айнских женщин по материнской линии, но и оберегом для всей семьи, полученным, по их сказаниям, непосредственно от богини огня Камуй Фути (Фудзи). В древней традиции они именуются э-эсимукэп , что значит «наиболее скрытая вещь». Другое название, которым пользуются старые люди, – исиримау-рири , т.е. «сохранение большой (телесной) силы». Употребительны также раун кут или рам кут – «нижний пояс» или «пояс духа» [Munro, Seligman, Watanabe, 1996, p. 141–143]. Так, например, в коллекции Фонда исследования и поддержки айнской культуры имеются три женских нательных пояса раун кут [Collections…, 2001, p. 110].
Айнские женщины Хоккайдо и Сахалина носили сакральные пояса под одеждой, скрывая их от посторонних взглядов. В словаре Дж. Бэчелора термин чахчанки трактуется как женский передник, изготов- ленный из лубяных ниток [Batchelor, 1926, p. 64]. Ха-гинака Миэ называет пояса стыдливости сахалинских айнок по-японски сита химо – «нательные пояса» [1992, с. 128]. Их появление на Хоккайдо связано с трагическими перипетиями в судьбе айнов Сахалина, вынужденных неоднократно покидать места своего проживания. В конце 1940-х гг. большинство их репатриировалось на Хоккайдо. Можно предположить, что продажа сувенирных чахчанки говорит о высокой степени ассимиляции сахалинцев, потерявших не только родную землю и свои корни, но и тайны своей культуры и переживших материальные затруднения в послевоенной Японии.
Немногие ученые смогли увидеть и тем более получить в свою коллекцию сакральные пояса айнских женщин. Только те, кому они особо доверяли, имели возможность изучить секретный предмет, скрываемый даже от взглядов мужей. Среди таких ученых оказались Дж. Бэчелор, Б. Пилсудский, Н. Манро. Рисунок упсор кут Судзуки Хироми обнаружила и в словаре первого айнского профессора Тири Ма-сихо [1996, p. 47]. Сахалинский врач Н. Кириллов писал о нательном поясе айнок, которые не могут «обнажать своих половых частей, кроме тесно облегающей живот рубахи или халата, еще покрытых треугольным платком, спускающимся до колен и перевязанным по голому телу веревкой. Этот передник имеет важное значение: женщина получает его от матери с тем, что будет поднимать только для мужа. Изнасилованная без этого передника женщина не должна преследовать обидчика, умершая без передника – она не встретится в загробной жизни со своими родителями» [1898, с. 71].
В словаре Дж. Бэчелора упсо’ункут переводится как «женская набедренная повязка» [Batchelor, 1926, p. 512]. Осенью 1903 г. по просьбе профессора Ф. Старра из Чикаго он организовал группу айнов Хоккайдо для участия в работе Всемирной выставки в Сент-Луисе (США, 1904 г.), где они пробыли почти два года. Одна из вернувшихся женщин обратилась к Дж. Бэчелору с просьбой помочь сохранить деньги, заработанные на выставке изготовлением айнских сумок и вышивкой подушек. Когда он согласился, женщина отошла в угол и затем протянула пакет с деньгами, который был теплым и с сильным запахом. На вопрос Бэчелора, где же она прятала деньги так надежно, та ответила, что в своем упсор кут [Batchelor, 2000, p. 144–145].
Действительно, любопытным предметом айнской одежды является набедренная повязка, заменявшая штаны. Дело в том, что она была свойственна обитателям тропиков, но не народам Северной Азии [Соколов, 2014, с. 686]. «Это объясняется прежде всего своеобразием айнской культуры, многие черты которой характеризуются как южные, а также резким раз- личием антропологического типа айнов и окружающих их этнических общностей» [Спеваковский, 1986, с. 46]. Тории Рюдзо тоже утверждает, что айны с древних времен носили набедренные повязки, и в своей работе помещает изображение найденной в префектуре Мицу неолитической статуэтки женщины с набедренной повязкой [Torii, 1919, p. 159].
Но сахалинские и курильские айны, вытесненные с островов Японского архипелага, носили и штаны [Ainu collections…, 1998, p. 62]. Это обусловлено суровым климатом и влиянием соседних народов – нивхов, орочей, камчадалов, – у которых не было набедренных повязок. Тории Рюдзо пишет, что курильские айны заимствовали штаны ( oyou ) у камчадалов, но они носили и набедренные повязки (как он назвал передники стыдливости – чахчанкэ по-айнски или мокко на языке камчадалов) [Torii, 1919, p. 158–159]. У М. Добротворского в числе описываемых элементов одежды сахалинских айнов «есть штаны ( ойо , сл. гиляцкое), надеваемые очень редко» [1875, с. 34] или « чоскэ – подштанники: слово в диалекте айнов Сахалина» [Там же, с. 426]. Но в его словаре указано и слово тэпа , означавшее набедренную повязку айнских мужчин или «чохкэ (чохки) – айнский передник для обвязывания мошонки». «Сами Айны-мущины часто предпочитаютъ, если позволяет температура, сидеть предъ своим очагомъ без платья, съ однимъ передни-комъ ( тэпà ), плотно охватывающим половые части» [Там же, с. 37]. Тири Масихо в сборнике мифов своего народа приводит три варианта легенды о мужской набедренной повязке – фундоси (по-японски), оставленной мужчиной в реке для стирки, но унесенной течением реки к богине чистой воды [Тири Масихо-тё сакусю, 1987, с. 164–169]. По свидетельству сахалинской айнки Каная Фуса, у девочек тоже были набедренные повязки – тихтика умпэ (прикрывающие половые органы тин, тит – «тайный уд женский»), которые различались по размеру в зависимости от возраста, но они не были скрываемыми и постоянными в ношении, как упсор кут [Хагинака Миэ, 1992, с. 130; Добротворский, 1875, с. 424].
Наиболее подробные описания упсор кут сделаны Н. Манро, с 1893 г. в течение 12 лет работавшим врачом среди айнов Хоккайдо. Благодаря большому такту и терпению он смог не только увидеть сакральный пояс и узнать его роль в жизни айнок, но и получить специально изготовленные для него пять упсор кут (хранятся в Британском музее) [Munro, Seligman, Watanabe, 1996, р. 141–142].
Скрытностью айнок относительно их сакральных поясов обусловлено то, что современными исследователями в данной сфере чаще всего являются женщины. В середине XX в. вышла статья Сэгава Киёко об упсор кут айнок долины р. Сару (Хоккайдо), поясняющая, что о существовании этого предмета было известно еще в эпоху Эдо (XVII–XIX вв.). В 1940– 1950-х гг. айнские женщины рассказывали о них неохотно, всячески избегая расспросов. В то время упсор кут носило еще немало айнок, особенно из тех, кому было больше 50 лет. Они говорили, что нательные пояса – тайна и духи накажут, если ее раскрыть. С незапамятных времен в айнском обществе существовало табу на них: «Не смотри, не рассказывай и не слушай» [Сэгава Киёко, 1952, р. 246–248]. Но позднее, в 1980-х гг., Хагинака Миэ провела личные встречи со старыми айнками Хоккайдо и Сахалина, и ее собеседницы охотно рассказывали об упсор кут и показывали их. Но этих женщин осталось немного [Хагинака Миэ, 1992]. Хотя традиция ношения упсор кут исчезла и уже мало тех, кто их видел, все они знали о табу на упоминание. Судзуки Хироми смогла получить подробную информацию о сакральных поясах только от двух айнок. Она считает, что упсор кут выполняли четыре основные функции: служили символом взрослой женщины, играли роль оберега, символизировали стыдливость и были знаком родства по материнской линии [Судзуки Хироми, 1996, р. 47–48].
Мы рассмотрим сакральные пояса как знак матрилинейного родства, как оберег и символ связи с божеством. К сожалению, информации о различных функциях сахалинских нательных поясов ( чахчанки ) очень мало, поэтому мы больше будем говорить об упсор кут айнок Хоккайдо.
Сакральные пояса как знак матрилинейного родства
Сакральные пояса (упсор кут) являются знаком матрилинейного родства, сохранившегося в патриархальном айнском обществе. Женщин, носивших одинаковые упсор кут, называли синэ-упсор – «один карман» как принадлежавших одному роду по материнской линии [Хагинака Миэ, 1992, с. 129]. Л.Я. Штернберг писал, что у гиляков «типичный отцовский строй, у айну – материнский» [1933, с. 559]. А.Б. Спеваков-ский, изучая терминологию родства, обнаружил, что для айнов «характерно четкое разграничение родственников по отцовской и материнской линиям» [1986, с. 52–53].
По мнению Н. Манро, ношение сакральных поясов было условием соблюдения матрилинейной экзогамии. Мужчина не мог жениться на двух сестрах, имевших одинаковые пояса. Двум братьям запрещалось жениться на двух сестрах. Брак вдовы с младшим братом мужа разрешался, а со старшим был невозможен [Munro, Seligman, Watanabe, 1996, p. 147]. Вместе с тем Н. Манро указывает, что у айнов Хоккайдо материнская линия признается только женщинами, но не мужчинами. Кроме того, его информант перечислил представителей мужской линии родства до 15-го колена, а женщины могли определить женскую линию не далее своей бабушки. Это кажется неожиданным, но предполагает постепенный распад матрилинейной системы. Н. Манро приводит термины хоккайдских айнов для родственных отношений: хути-икир или синэ-икир - матрилинейная группа; экаси-икир - патрилинейная группа; кемрит, переводимая как «кровеносная вена», – матрилинейные взаимоотношения; синрит – предки, патрилинейная группа; иривак – семейные отношения [Ibid., p. 145].
Б.О. Пилсудский писал, что у сахалинских айнов «существует смешанная система родства, но семейные узы по женской линии прочнее, нежели с мужской стороны. Брат матери и сегодня является главой семьи. Сестра в своей родной семье пользуется бóльшими привилегиями, нежели жена ее брата» [1994, № 1, с. 61]. При выборе жениха для девушки решающим голосом является голос дяди с материнской стороны. Для рождения первого ребенка роженица должна возвращаться в дом матери [Munro, Seligman, Watanabe, 1996, p. 146].
Сугиура Кэнъити отмечает, что у айнов долины р. Сару основой общества являются патрилокальные семьи в селении, где мужчины составляют одну или несколько локализованных патрилинейных родственных групп - экаси-икир (род прадеда), а имеющие одинаковый родовой знак ( итокпа ) называют себя си-нэ-итокпа . Женщины относятся к нелокализованной матрилинейной группе - хути-икир (род прабабки), а те, кто имеет одинаковые сакральные пояса, образуют родственное матрилинейное единство - синэ-уп-сор . Если вышедшие замуж женщины переходят в дом мужа в другое селение, то они стараются там найти женщин своего рода. Родовой знак семьи ( итокпа ), которым украшается церемониальный головной убор, передается от отца к сыну, а тайный женский упсор кут – от матери к дочери. Если у девушки нет матери, то ей повязывает упсор кут кто-либо из женщин материнского рода. Таким образом, в айнской общине приоритет за отцами, но женщины не совсем бесправны. При разводе сыновья уходят с отцом, а дочери с матерью. После смерти отца дом наследует старший сын, а после смерти матери женские вещи переходят старшей дочери [Сугиура Кэнъити, 1952, р. 187, 192, 205; Айну сэйкацу си…, 1984, с. 210].
Дж. Бэчелор указывает на важную роль айнских женщин, особенно преклонного возраста, в семье и общине. Он отмечает большое уважение к ним со стороны мужчин. Там, где влияние извне меньше, женщины имеют право голоса во всех делах семьи. Но все же Дж. Бэчелор замечает, что в селениях, оказавшихся под непосредственным влиянием японцев, роль женщин существенно снизилась [Batchelor, 1930, p. 14–15]. Скорее всего, это связано с усилением по- литики ассимиляции, проводимой японским государством с конца XIX в.
По мнению Сэгава Киёко, скрытый от глаз мужчин сакральный пояс, являющийся доказательством связи между женщинами синэ-упсор, был очень важен для самих женщин [1952, р. 246]. Айнки утверждали, что если они не будут постоянно носить упсор кут, то после смерти не встретятся с матерью, бабушкой. Кроме того, только женщины синэ-упсор могли помогать друг другу при рождении детей, на свадьбах или похоронах. Так, например, если умирала мать мужчины, то его жена (невестка) не имела права участвовать в подготовке к похоронам. Брак внутри синэ-упсор запрещался, поэтому, прежде чем решался вопрос о женитьбе, матери молодых узнавали друг у друга, не являются ли они обладателями одинаковых упсор кут . Таким образом, решающим могло стать мнение матери. О постепенном разрушении матрилинейной экзогамии в айнском обществе говорит факт существования определенных условий, дающих возможность обойти это табу. Например, если мужчина настаивал на браке с девушкой из синэ-упсор своей матери, то просто меняли упсор кут невесты и составляли новую, фиктивную, родословную [Хагинака Миэ, 1992, с. 128]. Или другой пример: бездетные супруги могли взять приемную дочь, совершив жертвоприношение предкам, при условии, что она из синэ-упсор приемной матери, но даже если матрилинейное родство не совпадало, это не становилось препятствием, т.к. можно было изменить упсор кут . Н. Манро приводит случай удочерения айнской семьей японской девочки, которой был дан пояс приемной матери [Munro, Seligman, Watanabe, 1996, p. 145].
Упсор кут снимали во время родов, а также после смерти мужа. Весь траурный срок вдова могла находиться только в углу жилища, с накинутым головным убором, и ей запрещалось подходить к огню. Через неделю траура она могла надеть обновленный пояс. Если вдова не снимала упсор кут, то меняла его положение, прокручивая с живота на спину. И только после этого она могла выйти замуж вновь. При смерти других родственников пояс не снимался [Сэгава Киё-ко, 1952, р. 246, 248].
У айнов было особое отношение к умершим, они старались не упоминать их имена. Н. Манро заметил эту скрытность у айнских стариков, даже тех, которые были к нему расположены. Они не называли имен и во время специальных молений духам предков. Такой строгий и давний запрет привел к отсутствию одинаковых имен, по крайней мере Н. Манро их не встречал. Особое отношение айнов к именам ушедших предков заставило и японцев, проводивших в конце XIX в. политику ассимиляции аборигенного населения Хоккайдо, составлять айнские фамилии по названию местности [Munro, Seligman, Watanabe, 1996, p. 159]. Можно предположить, что тайна имен умерших в некоторой степени препятствовала возможности проследить родственную связь между будущими супругами, но это в какой-то мере компенсировалось существованием сакральных поясов айнских матерей. Казалось бы, такая небольшая этническая общность в современном мире должна знать родственные отношения своих соплеменников. Однако вся история айнов говорит о том, что это был многочисленный и могущественный народ, живший на обширной территории Японского архипелага вплоть до о-ва Кюсю. Но в ходе постоянных стычек с японцами уцелевшие айны постепенно были вытеснены на север – на Хоккайдо, Сахалин и Курильские острова.
С конца XIX в. в условиях японской политики насильственной ассимиляции айнского населения, особенно через школьное образование, все больше молодых айнок переставали носить упсор кут . Во второй половине ХХ в. пожилые женщины хоть и не надевали, но хранили сакральные пояса в отдельных коробочках и просили класть их в могилу после смерти. Конечно, оставались и те, кто продолжал носить упсор кут , но держать это в тайне становилось трудно, т.к. все чаще приходилось раздеваться и снимать нательные пояса – перед посещением бани, в ходе медицинских осмотров и т.д. [Судзуки Хироми, 1996, р. 68–69].
Сакральные пояса как обереги и их связь с айнскими божествами
Определение «сакральные пояса» упсор кут получили потому, что их считали также амулетом, оберегом. По словам сахалинских айнок, их чахчанки по смыслу не равнозначны хоккайдским упсор кут (или раун кут ), по скольку являются амулетом или оберегом, как хоккайдские исима (исма) [Хагинака Миэ, 1992, с. 131]. Существовали и веревочные амулеты икэма с каким-либо знаком на одном конце, тоже изготовленные женщинами. В коллекции Фонда исследования и поддержки айнской культуры имеются три икэма . Один из них в виде черно-белого витого шнура длиной 36,5 см, толщиной 1,5 см был как бы девичьим инау *, который вешали на шею или над колыбелью [Collections…, 2001, p. 111].
По убеждениям айнских женщин, упсор кут обладают магиче ским действием [Munro, Seligman, Watanabe, 1996, p. 142–143]. Этим можно объяснить наличие у нательных поясов множества айнских названий, указанных разными информантами. В «Айн- ской этнографии» под иллюстрацией упсор кут написано, что это оберег (исима) айнок, передаваемый по материнской линии. Мужчины не могли что-либо сказать о поясах, хотя и знали об их существовании [Айну миндзоку, 1969, с. 125–126]. Айнки считали, что упсор кут могут успокоить разбушевавшийся шторм, вернуть приливную волну, остановить пожар, оттолкнуть божество оспы. Женщина без сакрального пояса не имела права подойти к очагу в доме, к клетке со священным медведем, так же как и во время менструации. За несоблюдение запретов ее могли наказать, т.к. считалось, что это может навлечь беду на семью и род [Munro, Seligman, Watanabe, 1996, p. 142–144].
О магическом свойстве девичьего набедренного пояса знали сахалинские айны-мужчины. Б.О. Пилсудский указывает на айнское сказание, в котором мужчина попросил чахчанки у своей жены, сделал из него повязку на глаза и смог добыть «металлические подобия светил», посланные богами и ставшие талисманом в селении Котанкес в доме Ситорикайну [Пилсудский, 1994, № 2, с. 85]. Хагинаки Миэ считает, что на Сахалине часто путали чахчанки с треугольными повязками для защиты глаз от солнца [1992, с. 131–132]. Действительно, в коллекции Б.О. Пилсудского имеется такая повязка, по форме напоминающая чахчанки [Каталог…, 1991, с. 21].
Сэгава Киёко в ходе своих полевых исследований среди айнов в долине р. Сару в 1951 г. получила подтверждение, что упсор кут , переданный от бабушки, теряет свою силу, если его кому-либо показать. Женщины были обязаны постоянно носить упсор кут , иначе они не могли разжечь огонь, приготовить пищу и сделать счастливыми мужа и детей [Сэгава Киёко, 1952, р. 246]. Известно, что в конце XIX в., в процессе колонизации Хоккайдо японскими переселенцами, встречавшими немалые трудности в этом суровом краю, некоторые японки переняли айнскую традицию ношения нательных поясов как оберегов от болезней или несчастий [Судзуки Хироми, 1996, р. 68–69].
Судзуки Хироми, зная о табу на разглашение секрета упсор кут, решила проверить, есть ли упоминания о них в айнском фольклоре. У айнов не было письменности, поэтому вся их история и жизнь воспроизводилась в мифах и сказаниях, передаваемых из уст в уста. Оказалось, что есть довольно много преданий о сакральных поясах айнок, особенно о роли божеств в появлении этого тайного женского атрибута. В мифе, рассказанном айнкой из Сидзунай (Хоккайдо), примечательно то, что однажды нательный пояс от дочери боже ства сестре передал старший брат, хотя в айнском обществе он передается только матерью или бабушкой. В другом сказании девушка, воспитанная старшим братом, не умела шить, и однажды во время грозы на землю спустилась дочь божества грома, которая научила ее искусству шитья и вышивки, а также изготовлению сакрального пояса и объяснила, что женщины с упсор кут должны делать подношения богине огня и другим духам дома. Перед тем как покинуть мир людей, она подарила девушке металлический упсор кут и велела помнить, что это подарок дочери божества, когда будет ложиться рядом с мужем. Никаких данных о существовании металлических поясов нет, скорее всего, он символизирует связь с божеством грома. Таким образом, в сказаниях прослеживается прямая связь упсор кут с айнскими божествами, которые не только передали или научили делать пояса, но и придали им магические свойства [Там же, р. 58, 68–69]. При этом превалирует вера в роль богини огня Камуй Фути в изготовлении упсор кут со всеми определенными ею запретами.
Основные типы сакральных поясов
Можно выделить два основных типа сакральных поясов айнок Хоккайдо и Сахалина: сахалинские ( чах-чанки ) и хоккайдские (упсор кут, раун кут, пон кут, исима) . Первые существенно отличаются по технике изготовления, форме и вышивке цветными хлопчатобумажными нитками узоров на ткани от более простых, похожих на сплетенные веревочки, хоккайдских упсор кут . Но Хагинака Миэ находит и среди сахалинских поясов схожие с хоккайдскими, которые состоят из двух шнурков, местами обшитых тканью [1992, с. 129]. В чахчанки больше используется хлопчатобумажная ткань. Так, например, описывает один из поясов Б.О. Пилсудский: «…из плотной ткани темно-синего цвета, на подкладе, с тремя завязками из ткани. Трапециевидной формы, верхняя половина украшена вышивкой цветными (желтыми, светло-зелеными и белыми) нитями» [Каталог…, 1991, с. 21]. При этом известно, что сахалинские мастерицы ткали также и из волокон крапивы [Росиа га…, 2013, с. 57]. На сахалинском чахчанки с черно-красным прямоугольником были вышивки и цветными нитками, и бисером [Ainu collections…, 1998, p. 20].
Хоккайдские упсор кут выглядели намного проще: витые либо плетеные из двух, трех или пяти шнурков из растительных волокон (крапивы, луба ильма, липы, бересклета) с черными треугольниками или ромбами на обоих концах. В некоторых поселениях Хоккайдо при украшении нательных поясов избегали применять белые, красные или черные цвета [Судзуки Хироми, 1996, р. 51, 57, 66].
Н. Манро вначале обнаружил три типа хоккайдских поясков, обозначавшие три линии материнского рода: от божества свежей воды (Вакка-уш-Камуй), божества медведя (Ким-ун Камуй) и божества моря или касатки (Рэп-ун Камуй). Каждый из них соткан особо, отличается узором, количеством прядей, и все изготовлены из волокон дикой конопли. Длина шнура была индивидуальна, т.к. определялась расстоянием между пальцами вытянутых рук женщины. Позднее Н. Манро удалось изучить еще пять типов сакральных поясов с особыми отметками происхождения рода (волк, лиса, орел, барсук и заяц). Люди рода зайца занимали самое низкое положение. По айнской легенде, охотник увидел прекрасную девушку, которая плела шнур в лесу. Она устыдилась, что мужчина увидел ее за секретным занятием. Чтобы скрыть этот стыд, девушка должна была стать его женой. Она и положила начало роду зайца. Все женщины почитают богиню огня Камуй Фути (Фудзи), прародительницу айнов, научившую их делать упсор кут по распоряжению главной богини айнов Аеойна Камуй. Вместе с тем, как пишет Н. Манро, женщины-информанты давали ему разные объяснения происхождения сакральных поясов: одни говорили, что их прабабки получили упсор кут непосредственно от Камуй Фути, а другие -от божественных зверей [Munro, Seligman, Watanabe, 1996, p. 141–144].
С большой осторожностью и тактом Н. Манро смог заказать пять поясков различных типов. Они были сплетены из смягченных волокон луба, хотя в большинстве своем плелись из крапивных, тем самым айнки попытались обойти запрет изготовления их по заказу мужчины, и тем более иностранца. Женщины предупреждали Н. Манро о необходимости сохранить их секрет, иначе, говорили айнки, ему угрожали зубная боль и даже смерть [Ibid., p. 141–144].
Девочек с малых лет обучали тому, что упсор кут должны быть скрыты от чужих глаз. Между собой женщины говорили о сакральных поясах очень осторожно, показывали друг другу украдкой. Молодые женщины не допускались к их изготовлению, этим могли заниматься в основном старые. Кроме того, упсор кут надо было регулярно обновлять, чтобы он ненароком не упал при муже [Ibid.].
О строгом соблюдении особенностей изготовления поясов в соответствии с родом матери говорит одно из сказаний о радуге. Девушка по имени Раёти перед свадьбой по давнему обычаю получила изготовленный матерью пояс. Раёти, не слушаясь матери, украсила его разноцветным шелком. Узнавшее об этом божество разгневалось и превратило невесту в радугу (по-айнски раёти ). И если в ясный день вдруг идет дождь, говорят, что это Раёти печалится и плачет [Судзуки Хироми, 1996, р. 59].
В коллекции Фонда по сохранению и поддержке айнской культуры хранятся нательные пояса, сделанные старыми айнками во второй половине XX в. и уже вышедшие из употребления. Женский веревочный по-яс-амулетраун кут (длиной 397,3 см, шириной 0,9 см) был изготовлен Сугимура Кёко под руководством Ки-нарабукку, которая призналась, что сама их никогда не носила [Collections…, 2001, p. 110–111]. Судзуки Хироми в своей работе показала различные типы поясов Хоккайдо: от простых в виде шнуров без дополнений до более сложных (с черными треугольниками или четырехугольниками на концах либо с обвязками), а также чахчанки Карафуто с треугольниками внизу живота [1996, р. 54].
Заключение
Таким образом, тайные нательные пояса айнских женщин, в научной литературе и каталогах музеев обозначенные как пояса стыдливости или целомудрия, все же являются сакральными родовыми поясами, передаваемыми по материнской линии, – в этом мы согласимся с утверждением Н. Манро. Основным аргументом в пользу данного определения служит тот факт, что они выполняли важнейшую функцию сохранения матрилинейной экзогамии в уже ставшем патриархальным обществе айнов (к концу XIX в.). Сокровенность сакральных поясов, полученных, по айнским мифам, от божества огня и бережно укрываемых не только от мужских, но и вообще от посторонних взглядов, была продиктована чувством ответственности женщин за судьбы семьи и рода. Наличие в айнском обществе двух линий родства – матрилинейной и патрилинейной – говорит о сохранении значительной роли матерей в жизни айнов, о тесной связи и взаимопомощи женщин одной материнской линии.
Список литературы О сакральных поясах и материнской линии в айнском обществе
- Айну миндзоку (Айнская этнография). – Токио: Дайнити хоки сюппан, 1969. – 800 с. (на яп. яз.).
- Айну сэйкацу си: Айну мукэй миндзоку бункадзай но кироку (Повседневная жизнь айнов: Записи о нематериальных культурных ценностях айнов). – Саппоро: Дзайдан ходзин айну мукэй бунка дэнсё ходзонкай, 1984. – 279 с. (на яп. яз.).
- Добротворский М.М. Айнско-русский словарь. – Казань: [Тип. Казан. ун-та], 1875. – 660 с.
- Каталог выставки, посвященной 125-летию со дня рождения Б. Пилсудского / сост. О.А. Шубина. – Южно-Сахалинск: Сахалин. обл. краевед. музей, 1991. – 34 с.
- Кириллов Н. Айно (предварительн ое сообщение) // Сахалинский календарь. – 1898. – Отд. II. – С. 38–82.
- Пилсудский Б.О. Материалы для изучения айнского языка и фольклора / пер. с англ. В.Д. Косарева // Краевед. бюл. – 1994. – № 1. – С. 56–89; № 2. – С. 80–104.
- Росиа га мита айну бунка – росиа кагаку академи (Культура айнов: взгляд из России: Из коллекции Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук). – СПб.: МАЭ РАН, 2013. – 131 с. (на яп. яз.).
- Соколов А.М. Айны: от истоков до современности: Материалы к истории становления айнского этноса. – СПб.: МАЭ РАН, 2014. – 766 с.
- Спеваковский А.Б. Айнская терминология родства // СЭ. – 1986. – № 2. – С. 45–56.
- Сугиура Кэнъити. Сару айну но синдзоку сосики (Система родства у айнов Сару) // Japanese J. of Ethnology. – 1952. – Vol. 16, N 3/4. – Р. 187–212 (на яп. яз.).
- Судзуки Хироми. Айну но сита химо (упсор) ни цуйтэ (Об айнских упсор – сакральных поясах) // Bull. of Hokkaido Museum of Northern Peoples. – 1996. – N 5. – Р. 47–83 (на яп. яз.).
- Сэгава Киёко. Сару айну фудзин но Упсор ни цуйтэ (Об Упсор айнов долины р. Сару) // Japanese J. of Ethnology. – 1952. – Vol. 16, N 3/4. – Р. 246–254 (на яп. яз.).
- Тири Масихо-тё сакусю: Сэцува – камуй ута хэн (Последняя коллекция Тири Масио: Сборник мифов и божественных песен). – Токио: Хэйбонся, 1987. – Т. 2. – 474 с. (на яп. яз.).
- Хагинака Миэ. Сита химо – пояс стыдливости // Б.О. Пилсудский – исследователь народов Сахалина: матлы Междунар. науч. конф. 31 окт. – 2 нояб. 1991 г. – Южно-Сахалинск: Сахалин. обл. краевед. музей, 1992. – Т. 1. – С. 128–133.
- Штернберг Л.Я. Гиляки, орочи, гольды, негидальцы, айны: статьи и материалы / под ред. и с предисл. Я.П. Алькор (Кошкина). – Хабаровск: Дальгиз, 1933. – 740 с.
- Ainu collections of Peter the Great museum of Anthropology and Ethnology Russian Academy of Sciеnces: Catalogue. – Tokyo: Sofucan, 1998. – 204 p. (in Engl., Russ., Jap.).
- Batchelor J. An Ainu-English-Japanese Dictionary (Including a Grammar of the Ainu Language). – Tokyo: Methodist Pub. House, 1926. – 556 p.
- Batchelor J. Ainu Life and Lore: Echoes of a Departing Race. – Tokyo: Kyobunkwan, 1930. – 448 p.
- Batchelor J. Steps by the Way / ed. K. Refsing. – Richmond: Curzon Press, 2000. – 153 p. – (Early European Writings on Ainu Culture: Travelogues and Descriptions; vol. 5).
- Collections of the Foundation for Research and Promotion of Ainu Culture: Catalogue. – Sapporo: Nakanishi Printing Co., 2001. – Vol. 2: Sugimura Collection I. – 120 p.
- Munro N.G., Seligman B.Z., Watanabe H. Ainu Creed & Cult. – L., N.Y.: Kegan Paul International, 1996. – 232 p.
- Tate K. Sacred Places of Goddess: 108 Destinations. – San Francisco: Consortium of collective consciousness, 2005. – 425 p.
- Torii R. Études archéologiques et ethnologiques: les Aïnou des îles Kouriles. – Tokyo: Imperial University of Tokyo, 1919. – 337 p. – (J. of the College of Science, Imperial University of Tokyo; vol. XLII, art. 1).