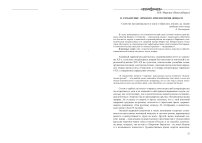О семантике личного имени Юрия Живаго
Автор: Мароши Валерий Владимирович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Статьи и сообщения. Поэтика романа Б.Л. Пастернака "Доктор живаго"
Статья в выпуске: 4 (27), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье показывается, что этимологический смысл личного имени героя романа «Доктор Живаго» («Георгий» - земледелец) связан с сюжетными событиями его бегства из города, с сюжетной ситуацией работы на огороде в Варыкино, символическим воскрешением его умершей матери Марии как Матери-Земли. Опыт героя обусловлен и огородническим мифотворчеством самого Бориса Пастернака, и этимологическим смыслом его имени («pastino» - «вскапывать»).
Имя, этимологический смысл имени, сюжетное событие, символический повтор ситуации, земля, огород
Короткий адрес: https://sciup.org/14914412
IDR: 14914412
Текст научной статьи О семантике личного имени Юрия Живаго
Аграрный характер русской жизни, сохранившийся почти до середины XX в., в системе литературных жанров был воплощен в эпической и лирической буколике XIX-XX вв. (идиллия, описательная усадебная поэма, дружеское послание, «колхозная поэма», массовая песня советского времени). Однако автор статьи «Георгики» в «Словаре литературных терминов» 1925 г. совершенно справедливо отмечал:
«К сожалению, понятие “георгика” вытеснялось всегда понятием “буколическая поэзия”, - что вообще очень помешало обособлению этого вида, и если мы имеем буколическую и идиллическую литературу, мы до сих пор не имеем земледельческой поэзии, как особого вида, хотя обособить ее и можно бы было»1.
Стихи о «работе на земле» в корпусе текстов русской литературы все же встречаются, хотя и не занимают в ней привилегированного места, поскольку как эстетическая, так и воспитательно-дидактическая составляющие античных «георгик» были передоверены другим, обозначенным выше жанрам. Не осталась в стороне и проза: полагаем, что к этой античной жанровой традиции по-разному относится и лирическая проза «деревенщиков» (например, «Ода русскому огороду» В. Астафьева), и дидактическая эпика («Лад» В. Белова).
Основой жанровой семантики в таком понимании «георгик» становятся соответственно мотивный комплекс и система тропов, выражающих радость и продуктивность труда на земле. Другой, менее значимый элемент жанра - локализация художественного пространства и этноцентризм (русские георгики имеют смысл только в России, в ее усадьбах, колхозах, на дачах, огородах, так же как и «Георгики» Вергилия - на земле Италии и в итальянских поместьях). Художественное время георгик циклично, ориентировано на календарь с его ежегодной повторяемостью аграрных циклов. Дидактизм повествования, использование императивов, которые в георгиках имеют не столько прагматический, сколько эстетически и особенно этически обязывающий характер - еще одна черта, свойственная еще античным георгикам. Сюжет можно определить скорее в философском, нежели в субъектном аспекте - это победа порождающей себя в труде жизни над смертью, плодоносящего мира над войной. В системе персонажей главную роль играет обобщенный образ земледельцев, родовые или локально-общинные отношения между ними.
Таким образом, не присутствуя в качестве сознательно используемого авторами жанра в русской литературе, «георгики» могли стать частью русского национального эпоса или лирики, темы которых были связаны не просто с трудом, а именно с трудом на земле. Мотивы жанра, имеющего явную ритуально-мифопоэтическую основу, связанную с ежегодными праздниками плодородия и урожая, повторяющимся кругом рождения и смерти растительного и животного мира, могли быть реализованы на разных уровнях художественного целого, в том числе и в целеполагающей деятельности героя или его сюжетообразующем имени.
Поэтический облик Пастернака в русской поэзии достаточно часто воспринимается в «земледельческом» ореоле. Источником подобного «порождающего» в буквальном и переносном смыслах творческого труда стала «растительная» фамилия поэта и его многолетний труд вместе с 3. Ней-гауз на участке в Переделкино. Современные русские поэты и прозаики воспринимают огородничество Пастернака как естественное продолжение его творчества: «Так славненько писал, не воевал, / все в огороде ямочку копал»2; «Уже ближе к рассвету, ежесекундно озираясь, дорогу переходит угрюмый огородник Пастернак с мешком»3. В полном пастернаковскими аллюзиями стихотворении С. Гандлевского «Есть горожанин на природе...» вполне непринужденно порождается поэтический окказионализм «пастерначит», те. как бы «занимается плодотворной работой с землей и растениями»:
Есть горожанин на природе. Он взял неделю за свой счет И пастерначит в огороде И умиротворенья ждет.
Семь дней, прилежнее японца, Он созерцает листопад, И блеск дождя, и бледность солнца, Застыв с лопатой между гряд.. ,4
Напомним, что «пастернак» - род семейства зонтичных, известны и овощные растения под названиями «пастернак посевной», «пастернак культурный» (дикий пастернак - один из самых трудновыводимых сорня- ков). Наиболее ценная часть растения - мощный корнеплод, находящийся в земле. В подобной форме («pasternak») слово было заимствовано русским языком из немецкого или польского (в романских языках - «pastinac» / «pastinaca»). В латинском языке значения исходного («pastino») и производных слов («pastinaca», «pastinatio», «pastinum») были синонимичны одному из значений словообразовательного гнезда «culto» - «cultura»: «pastino» - вскапывать, разрыхлять; «pastinaca» - пастернак; «pastinatio» -вскапывание виноградника; вскопанная почва; «pastinum» - вскапывание, мотыжение; вскопанный участок; мотыга для вскапывания почвы5. Ср. «cultura» - возделывание, обрабатывание; «cultura agri» (ср. «pastino agrum». -B.M.Y земледелие, сельское хозяйство; воспитание, образование; поклонение, почитание; «cultor» - возделыватель; «cultor agri»; «cultus» -возделывание, обработка; насаждения; поклонение, культ; вероисповедание6; «со1о» - обрабатывать, возделывать; разводить, взращивать; почитать, чтить7. Таким образом, этимон латинского «pastinaca», от которого образованы немецкий и польский варианты, обозначал процесс вскапывания и обработки земли («pastino»).
С лета 1918 г. частью бытовой жизни Пастернака стала совместная с родными огородная работа в Очакове под Москвой. Причины ее были, конечно, «прозаическими» - угроза голода, но, как и большинство русских интеллигентов, поэт воспринял эти перемены как расширение своей поэ-тосферы. Вот как об этом пишет Е.Л. Пастернак в биографии о поэте:
«Весной подняли и засеяли небольшой огород и в предчувствии голодной зимы растили овощи и картошку»8; «Борис Пастернак впервые оценил прелесть и обязательность работы на земле и мог с полным основанием сравнить труд земледельца, каждодневно возделывающего свой надел, с писательским»; «Именно здесь (летом 18 г. в Очаково под Москвой) по воскресеньям, наработавшись за день на огороде, после вечерней поливки он написал цикл стихотворений “Тема с вариациями”, в рукописи и первой публикации сопровождавшийся пометкой “Очаковская платформа Киево-Воронежской железной дороги”»9.
Уже с 1919 г. поэзия определяется в его стихах через «огородные» метафоры: «Это сладкий заглохший горох, // Это - слезы вселенной в лопатках, // Это - с пультов и флейт - Figaro // Низвергается градом на грядку»10. (Далее тексты Б. Пастернака приводятся по этому изданию, с указанием тома и страницы).
Решающими моментами в становлении огородничества поэта стали переезд из Москвы на дачу к семье в Переделкино в июле 1939 г, где поэт оказался обладателем обширного огорода; в какой-то степени случайное, но «мифогенное» совпадение урожайности огорода с началом новой фазы творчества; чтение исследования Фрэзера о ритуалах и мифологии аграрных циклов и работ О.М. Фрейденберг по мифопоэтике.
Позволим себе снова обратиться к биографической книге Е.Л. Пастернака:
«Полтора месяца Зина (Зинаида Нейгауз. -В.М.) своими руками и силами обживала и устраивала дом и ходила за огородом, таким большим, что нам едва с ним справиться. Здесь чудесно»11; «Он заставил себя бросить курить, чередуя сидение за столом с физическим трудом на огороде12; «После долгого периода сплошных переводов я стал набрасывать что-то свое. Однако главное было не в этом. Поразительно, что в нашей жизни урожайность этого чудного, живого лета сыграла не меньшую роль, чем в жизни какого-нибудь колхоза. Мы с Зиной (инициатива ее) развели большущий огород, так что осенью я боялся, что у меня с нею не хватит сил собрать все и сохранить»13; «Зазеваешься, и в погребе начнет мерзнуть картошка или заплесневеют огурцы. И все это дышит и пахнет, все живое и может умереть. У нас полподвала своего картофеля, две бочки шинкованной капусты, две бочки огурцов <.. > Ах, как вкусно еще живется, особенно в периоды трудности и безденежья...»14.
Очевидно, что результативность ежедневных огородных трудов («урожай»), их неожиданно серьезное значение для семейного быта и возвращение к поэзии сплетаются в единое чувственное лирическое переживание совершенно новой фазы жизни и творчества (и жизнетворчества).
Даже оказавшись вне уже привычной для себя культуры огородного земледелия, в чистопольской эвакуации, Пастернак продолжает воспринимать землю как потенциал искусства, первооснову творчества:
«Дорога покрыта толстым слоем черной грязи, выпирающей из-под булыжной мостовой. Здесь редкостная чудотворная почва, чернозем такого качества, что кажется смешанным с угольной пылью, и если бы такую землю трудолюбивому, дисциплинированному населенью <.. > и в этой Новой Бургундии расцвело бы искусство типа Рабле или Гофманского “Щелкунчика”»15.
Обратим внимание на знаковую фотографию 1946 г, где поэт снят за работой на своем огороде в Переделкино: он стоит, слегка наклонившись над землей с опрокинутым ведром в руках. Пастернак сосредоточен на самом процессе полива, а не на позировании, но в бытовом, на первый взгляд, изображении отчетливо «мифотворчество». Это жест Водолея (Пастернак - Водолей по времени рождения и осознанности мотивов дождя, ливня и т.п.) за работой, проливающего воду на Землю. Сосредоточенно глядящий под ноги себе Пастернак представляет собой как бы живую эмблему Водолея. Метаморфозы огородника в глиняный кувшин (амфора / две амфоры / кувшин - самая известные эмблемы этого знака) определят, в частности, стихотворение «Летний день», которое открывает цикл «Переделкино».
Обычно личное имя героя романа «Доктор Живаго» Юрия (Георгия) интерпретируется в духе христианской символики. Разумеется, мы не под- вергаем сомнению значимость этой мотивировки имени. Но в свете изложенного выше на нее можно посмотреть и с другой стороны - лирикоэтимологической. Поэт мог передоверить своему герою как свой автобиографический (наличие огорода в России - важное подспорье бытовой жизни, а иногда и средство спасения от голода), так и поэтический, точнее, мифопоэтический взгляд на огородничество. Сразу отметим, что близкий нашей интерпретации вариант толкования имени героя и символики как растительных, так и православных календарных мотивов, связанных с ним, развит в статье Е. Фарыно16. Мы пойдем на сознательное упрощение сюжетной ситуации, возможно, действительно более сложной в мифопоэтическом плане, чем это нам представляется. Нас, в отличие от Е. Фарыно, будут интересовать только два лирико-биографических по своему происхождению мотива, связанных с героем и его родственниками, - мотив огорода и мотив совместного с женой труда на нем. В мифопоэтическом и звукосимволическом планах они входят в символику Богородицы, где земля предстает как женское порождающее начало и фюнеральный (похоронный. - В.М.) финал жизни. С другой стороны, звукосимволический аспект текста (например, рифмы БОГОРОДица - огород, огород - род; этимологическая общность «огорода» и «города») требует порой не меньшего внимания, чем смысловой.
Рассмотрим этимологическую символичность имени героя - Георгия, «земледельца» в сюжетном аспекте. Похороны его матери совершаются в «канун Покрова» (Т. 3. С. 8), в ритуале отпевания акцентирована символика земли: «“Господня земля и исполнение ея, вселенная и все живущие на ней”. Священник крестящим движением бросил горсть земли на Марью Николаевну» (Т. 3. С. 7). После смерти матери из монастырских покоев герой видит фрагмент осеннего пейзажа:
«Два окна на уровне земли выходили на уголок невзрачного огорода, обсаженного кустами желтой акации, на мерзлые лужи проезжей дороги и на тот конец кладбища, где днем похоронили Марию Николаевну. Огород пустовал, кроме нескольких муаровых гряд посиневшей от холода капусты» (Т. 3. С. 8).
Необычный эпитет «муаровая» (ср. рефрен «муаровое платье» в «Кэнзели» И. Северянина) выдвигает на первый план не столько эффект переливающегося цвета, сколько «французскость» самого слова и его звуковую корреляцию с французскими «мать», «Мария», «смерть», «умереть» (ср. moire / Marie / mere, / mort, / mourir). Ключом к этому звукокомплексу становится именно «муаровый» цвет капусты. Кроме того, слово «капуста», помимо символики головы Иоанна Предтечи, что убедительно доказывает Е. Фарыно, может быть и консонансной параграммой фамилии поэта (ПуСТовал - капуста - ПаСТернаК).
Связь капусты с рождением и материнством («нашли в капусте») будет сюжетно развернута в эпизодах жизни в Варыкино и возделывании огорода. Нетрудно заметить, что неторопливый перечень запасенных осенью на зиму плодов земли в записях Юрия Живаго сменяет сначала упоминание о зайцах среди зимних капустных кочерыжек (заяц, поедающий или заламывающий капусту - общеславянский брачно-эротический символ), а затем - предположение о беременности жены:
«Картошку успели выкопать до дождей и наступления холодов <.. > ее у нас до двадцати мешков, и вся она в главном закроме погреба <...>. Туда же в подполье спустили две бочки огурцов, которые засолила Тоня, и столько же бочек наквашенной ею капусты. Свежая развешана по столбам крепления, вилок с вилком, связанная попарно. В сухой песок зарыты запасы моркови. Здесь же достаточное количество собранной редьки, свеклы и репы, а наверху в доме множество гороху и бобов. <...>
Я люблю зимою теплое дыхание подземелья, ударяющее в нос кореньями, землею и снегом, едва подымешь опускную дверцу погреба» (Т. 3. С. 277); «Скрипнешь дверью, <.. > и с дальней огородной гряды с торчащими из-под снега капустными кочерыжками порснут и пойдут улепетывать зайцы, размашистыми следами которых вдоль и поперек изборожден снег кругом» (Т. 3. С. 277); «Ближе к весне доктор записал: “Мне кажется, Тоня в положении”» (Т. 3. С. 278).
Варыкинский огородный пейзаж, осенний сбор урожая и запасы, сделанные на зиму, проспекция рождения ребенка - наиболее полная актуализация этимологии имени Георгия и преодоление сюжетной ситуации осенней смерти матери.
В ночь после смерти матери героя будит «сверхъестественное» озарение «белым порхающим светом» вьюги:
«За окном не было ни дороги, ни кладбища, ни огорода. На дворе бушевала вьюга, воздух дымился снегом. <...> С неба оборот за оборотом бесконечными мотками падала на землю белая ткань, обвивая ее погребальными пеленами. <.. > Его пугало, что монастырскую капусту занесет и ее не откопают, что в поле заметет маму и она бессильна будет оказать сопротивление тому, что уйдет еще глубже и дальше от него в землю» (Т. 3. С. 8).
Мама и монастырская капуста метонимически соотносятся в видении персонажа: капусту могут «откопать», вырыть из земли и снега, как маму из могилы, а маму, в свою очередь, может «замести» снегом, как капусту в огороде. Развитием этой уже скорее «зимней», «снежной», «белой» символики Покрова станут эпизоды с бельем или покрытой белым землей. (См. в статье Е. Фарыно. В видении в монастыре символическим посредником между матерью и землей, Юрой и смертью, и становится именно огород ная капуста).
Похожая сюжетная ситуация работы на огороде после «покрова» его снегом, которая станет причиной нескольких женских смертей, развернута в рассказе об убийстве одинокой вдовы и смерти мальчика-«водоноса»,
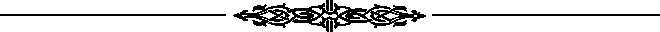
впоследствии ученика Живаго - Васи Брыкина («С реки подымался кто-то с полным ведром воды». Т. 3. С. 463). Мальчик с ведром - лирический символ самого автора-Водолея. Сбор урожая в этом персонажном нарративе оборачивается в конечном счете двумя женскими смертями: утопившейся от горя матери мальчика и вдовы. В рассказе мы встречаемся со знакомым нам кругом циклических урожайных мотивов - тяжелой работы с землей после неожиданно выпавшего снега («...вдруг зима, когда никто не ждал. Рано выпал снег. Не выкопала вдова картошку» - Т. 3. С. 464), сбора плодов земли, выкапывания кувшинообразной (тоже символика Водолея. - В.М.) ямы в земле для хранения картошки. Хранилище плодов земли становится «могилой» вдовы («Я бы сама вырыла яму, схоронить...» - там же) плодов земли, метель, весенние ливни, смерть в земле:
«В самую непогодь копали. Дождь и снег, жижа, грязь. Копали, копали <...> Выкопал я ей яму, как тайничку полагается, книзу шире, кувшином, узким горлом вверх. Яму тоже дымом сушили, обогревали. В самую-самую метель. Спрятали картошку честью честью, землей забросали. Под Васильев вечер ливни шли, смыли снег с бугров, до земли протаял. <.. > Раскопал, раскидал верх, а из ямы хозяйкины ноги в башмаках с перетяжками». (Т. 3. С. 464-465).
«Васильев вечер», разумеется, связан и с именем самого мальчика -Василия. Однако сам мальчик остается в живых тоже благодаря пещере в земле: «Под землей в пещере скрывался» (Т. 3. С. 466).
В перспективе текста «огород» включается и в гнездо ключевых слов «город» и «род», с которыми он связан и в сюжетно-событийном плане: из больших городов (Москва, Юрятин) герои перемещаются к спасительному для них пространству о-города в Варыкино, параллельно работам на огороде будет зачата дочь Мария, имя которой дадут в честь умершей матери Юрия Живаго, Марии Николаевны. «Город» и «огород» связаны в этимологическом плане («огороженное пространство»), «роды» жены Живаго, которые принимает Лара, составляют с ого-родом «поэтическое» созвучие. Кроме того, в тексте романа революционная активность персонажей первоначально не только локализована «под-земной деятельностью», символической реализацией «подполья», но и идиомой «огород городить», явно антитетичной будущему «огороду» Юрия Живаго:
«Через часа три или четыре, поближе к сумеркам, в стороне от дороги в поле как из-под земли выросли две фигуры, которых раньше не было на поверхности, и, часто оглядываясь, стали быстро удаляться. Это были Антипов и Тиверзин.
-
- Пойдем скорее, - сказал Тиверзин. - Я не шпиков остерегаюсь, как бы не выследили, а сейчас кончится эта волынка, вылезут они из землянки и нагонят. А я их видеть не могу. Когда всё так тянуть, незачем и огород городить. Не к чему тогда и комитет, и с огнем игра, и лезть под землю! И ты тоже хорош, эту размазню с Николаевской поддерживаешь» (Т. 3. С. 31).
Запахи и звуки летнего огорода и цветов, звук льющейся воды герой воспринимает в pendant зарождающейся любви к Ларе, к комнату которой его приводит мадмуазель (moir - mademoiselle) Флери («fleurir» франц. -«цвести»):
«На последней ступеньке доктор остановился. Он подумал, что даже стуком наведываться к человеку, утомленному дорогой, неудобно и навязчиво. Лучше разговор отложить до следующего дня. В рассеянности, всегда сопровождающей передуманные решения, он прошел по коридору до другого конца. Там в стене было окно, выходившее в соседний двор. Доктор высунулся в него.
Ночь была полна тихих, таинственных звуков. Рядом в коридоре капала вода из рукомойника, мерно, с оттяжкою. Где-то за окном шептались. Где-то, где начинались огороды, поливали огурцы на грядках, переливая воду из ведра в ведро, и гремели цепью, набирая ее из колодца.
Пахло всеми цветами на свете сразу словно земля днем лежала без памяти, а теперь этими запахами приходила в сознание. А из векового графининого сада, засоренного сучьями валежника так, что он стал непроходим, заплывало во весь рост деревьев огромное, как стена большого здания, трущобно-пыльное благоуханье старой зацветающей липы» (Т. 3. С. 140).
Снова отметим лирическую символику Водолея, в данном контексте привязанную уже к поливу огородов.
Неудивительно, что цветочная символика мадмуазель Флери, цветы и их запах станут аккомпанементом смерти и похорон героя:
«Старая седая дама в шляпе из светлой соломки с полотняными ромашками и васильками, и сиреневом, туго стягивавшем ее, старомодном платье, отдуваясь и обмахиваясь плоским свертком, который она несла в руке, плелась по этой стороне»; «Его окружали цветы во множестве, целые кусты редкой в то время белой сирени, цикламены, цинерарии в горшках и корзинах» (Т. 3. С. 485); «.. .одни цветы были заменою недостающего пения и отсутствующего обряда.
Они не просто цвели и благоухали, но как бы хором, может быть, ускоряя этим тление, источали свой запах и, оделяя всех своей душистою силой, как бы что-то совершали.
Царство растений так легко себе представить ближайшим соседом царства смерти. Здесь, в зелени земли, между деревьями кладбищ, среди вышедших из гряд цветочных всходов, сосредоточены, может быть, тайны превращения и загадки жизни, над которыми мы бьемся» (Т. 3. С. 486).
В романе значима и поэтическая паронимия «огород - Богородица», которая опирается на верования и ритуалы русского крестьянства, связанные с общностью Матери сырой земли, Богородицы и родной матери («три матери»), В одном из микроконтекстов романа инициальные и опорные буквы евангельского, богородичного имени и отчества матери Живаго Марии Николаевны совпадают с экфрасисом ее иконописного запечатления в романе: «Богородица на иконе выпрастывала из серебряной ризы оклада узкие, кверху обращенные, смуглые ладони. Она держала в каждой как бы по две начальных и конечных греческих буквы своего византийского наименования: метер неу, Матерь Божия» (Т. 3. С. 311. Ср. имя МаРии Николаевны).
Апофеозом прочувствованной самим биографическим автором благодати физического труда и вечного порождения жизни в возделывании матери-земли станет дневник Юрия Живаго, который пастернаковский романный герой ведет в Варыкино:
«Какое счастье работать на себя и семью с зари до зари, сооружать кров, возделывать землю в заботе о пропитании, создавать свой мир, подобно Робинзону, подражая творцу в сотворении вселенной, вслед за родной матерью производя себя вновь и вновь на свет!
Сколько мыслей проходит через сознание, сколько нового передумаешь, пока руки заняты мускульной, телесной, черной или плотничьей работой; <...> пока шесть часов кряду тешешь что-нибудь топором или копаешь землю под открытым небом, обжигающим тебя своим благодатным дыханием» (Т. 3. С. 275).
Как известно, сначала Юрий Живаго настроен против поездки в Варыкино, но сама инициатива в разведении огорода, хотя бы и под Москвой, как это было в биографии Пастернака в 1918 г, принадлежит ему. Мы узнаем это из реплики его жены: «- Ты говоришь, перебиться год-другой, тем временем упорядочатся новые земельные отношения, можно будет испросить полоску под Москвой, развести огород. А как продержаться в промежутке, ты не советуешь» (Т. 3. С. 208). В сюжетном, а не сюжетносимволическом плане варыкинский огород становится спасением семьи Живаго от голода, эскапистским исходом от ужасов гражданской войны и неразберихи в идиллическое пространство:
«Он говорит, что на год, на два надо куда-нибудь уехать из больших городов, “на земле посидеть”. Я с ним советовалась насчет Крюгеровских мест. Он очень рекомендует. Чтобы можно было огород развести, и чтобы лес был под рукой. А то нельзя же погибать так покорно, по-бараньи» (Т. 3. С. 207).
Примечательно, что монолог Александра Александровича Громеко в разговоре с Живаго о цели поездки в Варыкино заканчивается утверждением тестя ценностей не автаркичного земледелия, но постреволюционного «разворовывания». Этот диалог происходит весной, на земле, которая «выходит из-под снега...», на кольях, «концами вбитых в землю» (Т. 3. С. 240):
«Тоня спрашивает, не опоздаем ли мы к огородным срокам, не прозеваем ли времени посадки. Что ей ответить? Я не знаю здешней почвы. Каковы климатические условия? Слишком короткое лето. Вызревает ли тут вообще что-нибудь? Да, но разве мы едем в такую даль огородничать? Тут нельзя даже скаламбурить “за семь верст киселя хлебать”, потому что верст этих, к сожалению, три или четыре тысячи. Нет, откровенно говоря, тащимся мы так далеко совсем с другой целью. Едем мы попробовать прозябать по современному, и как-нибудь примазаться к разбазариванию бывших дедушкиных лесов, машин и инвентаря» (Т. 3. С. 241).
Для огородно-флористического кода романа важна намеченная преемственность будущего огорода в Варыкино по отношению к цветнику:
«- Завтра надо будет с утра осмотреть пристройку, которую он нам наметил, и если она пригодна для жилья, разом за ее починку. Тем временем как будем приводить угол в порядок, почва отойдет, земля согреется. Тогда, не теряя ни минуты, за грядки. Мне послышалось, будто он между слов, в разговоре обещал помочь семенною картошкой. Или я ослышался?
- Обещал, обещал. И другими семенами. Я своими ушами слышал. А угол, который он предлагает, мы видели проездом, когда пересекали парк. Знаете, где? Это зады господского дома, утонувшие в крапиве. Деревянные, а сам он каменный. Я вам с телеги показывал, помните? Там бы стал я рыть и грядки. По-моему, там остатки цветника. Так мне показалось издали. Может быть, я ошибаюсь. Дорожки надо будет обходить, пропускать, а земля старых клумб наверное основательно унаваживалась и богата перегноем» (Т. 3. С. 272).
Огородная работа сближает героя и его жену в их огородных трудах, совсем как Б. Пастернака и 3. Нейгауз: «Мы с Тоней никогда не отдалялись друг от друга. Но этот трудовой год нас сблизил нас еще тесней. Я наблюдал, как расторопна, сильна и неутомима Тоня, как сообразительна в подборе работ, чтобы при их смене терялось как можно меньше времени» (Т 3. С. 278). Эта оценка из дневника доктора перерастает в его рассуждение о женщине-производительнице и Богородице:
«Мне всегда казалось, что каждое зачатие непорочно, что в этом догмате, касающемся Богоматери, выражена общая идея материнства.
На всякой рожающей лежит тот же отблеск одиночества, оставленности, предоставленности себе самой. Мужчина до такой степени не у дел сейчас, в это существеннейшее из мгновений, что точно его и в заводе не было и все как с неба свалилось.
Женщина сама производит на свет свое потомство, сама забирается с ним на второй план существования, где тише, и куда без страха можно оставить люльку. Она сама в молчаливом смирении вскармливает и выращивает его.
Богоматерь просят: “Молися прилежно Сыну и Богу Твоему”. Ей вкладывают в уста отрывки псалма: “И возрадовася дух мой о Бозе Спасе моем. Яко воззри на смирение рабы своея, се бо отныне ублажат мя вей роди”. Это она говорит о своем младенце, он возвеличит ее (“Яко сотвори мне величие сильный”), он - ее ава. Так может сказать каждая женщина. Ее бог в ребенке. Матерям великих людей должно быть знакомо это ощущение. Но все решительно матери - матери великих людей, и не их вина, что жизнь потом обманывает их» (Т. 3. С. 278-279).
Итак, «георгики» героя Пастернака вбирают в себя не только архаично-мифологические смыслы, но и те, которые аллюзивны по отно-
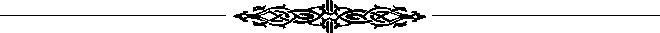
шению к мифотворчеству автора и его биографии. Мифогенный потенциал родового (то есть порожденного и порождающего) имени автора актуализируется в личном имени самого известного из его героев.
Список литературы О семантике личного имени Юрия Живаго
- Богоявленский Л. Георгики//Литературная энциклопедия: Словарь литературных терминов: В 2 т. Т. 1. М.; Л., 1925. С. 162
- Миронов А. Избранное: Стихотворения и поэмы. 1964-2000. СПб., 2002. С. 338
- Горчев Д. Дикая жизнь Гондваны. М., 2008. С. 105
- Гандлевский С. Порядок слов: Стихи, повесть, пьеса, эссе. Екатеринбург, 2000. С. 413
- Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. М., 1986. С. 557
- Пастернак Е.Л. Борис Пастернак. (Материалы для биографии). М., 1989. С. 326
- Пастернак Б.Л. Собрание сочинений: В 5 т. М., 1989-1990. Т. 1. С. 134
- Пастернак Е.Л. Указ. соч. С. 540
- Фарыно Е. Муаровая капуста и тетрадь откровений (археопоэтика «Доктора Живаго». 2)//Культура и текст. 2011. № 12. С. 6-67