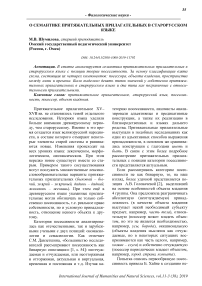О семантике притяжательных прилагательных в старорусском языке
Автор: Шумилова М.В.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 11-3 (38), 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется семантика притяжательных прилагательных в старорусском языке с позиции теории посессивности. За основу классификации взята схема, состоящая их четырех компонентов: посессора, объекта владения, пространства между ними и времени. Было выделено девять типов значений у собственно притяжательных прилагательных в старорусском языке и два типа как пограничные с относительными прилагательными.
Притяжательное прилагательное, старорусский язык, посессивность, посессор, объект владения
Короткий адрес: https://sciup.org/170185739
IDR: 170185739 | DOI: 10.24411/2500-1000-2019-11792
Текст научной статьи О семантике притяжательных прилагательных в старорусском языке
Притяжательное прилагательное XV– XVII вв. не становилось темой отдельного исследования. Историки языка уделяли больше внимания древнерусскому периоду, чем старорусскому. Именно в это время создается язык великорусской народности, в составе которого отмирают некоторые элементы старой системы и развиваются новые. Изменения происходят на всех уровнях языка: лексическом, морфологическом, синтаксическом. При этом нередко новое существует вместе со старым. Примером такого сосуществования могут послужить множественные лексикословообразовательные варианты притяжательных прилагательных ( быковый – бычий, зв ^ рий - зв е риный, дядинъ - дядний, жениховъ – женишь ). При этом ещё в древнерусском языке указанные прилагательные могли обозначать не только собственно посессивность, т.е. реальное право собственности, но и условную принадлежность, отношение некоего объекта к другому.
Категория посессивности анализировалась как отечественными, так и зарубежными учеными с двух позиций: ономасиологии и семасиологии. Как отмечает С.М. Давлетшина, «большинство исследователей рассматривают посессивность как бинарную оппозицию» [1, с. 54]: неотчуждаемая и отчуждаемая, или неотторжимая и отторжимая, актуальная и виртуальная, временная и постоянная и т.д. Изучая ка- тегорию посессивности, лингвисты анализировали адъективные и предикативные конструкции, а также их реализацию в близкородственных и языках дальнего родства. Притяжательные прилагательные выступали в подобных исследованиях как один из адъективных способов выражения принадлежности, в основном же сравнивались конструкции с глаголами иметь и быть. В связи с этим более подробное рассмотрение притяжательных прилагательных с позиции категории посессивно-сти представляется актуальным.
Если рассматривать категорию посес-сивности не как бинарную, то, на наш взгляд, более удачной представляется позиция А.В. Головачевой [2], выделившей на основе особенностей объекта владения 4 группы. Она предложила разграничивать абсолютную (неотчуждаемую) принадлежность (в качестве объекта владения выступает некий необходимый субъекту предмет, например, часть тела ), относительную (посессор может владеть объектом, но это не является необходимостью, например, усы, борода ), окказиональную (объекты владения мыслятся как отчуждаемые, но в некоторых ситуациях воспринимаются как часть целого, например, хозяин – слуга ) и собственно отчуждаемую (посессор периодически владеет объектом, например, город, страна, комната ).
Попытка описать первообразную посес-сивность привела Б. Хайне к созданию не- кой схемы как набора составляющих признаков: «посессор (одушевленный субъект), обладающий правом использовать объект посессивности; конкретный объект посессивности (собственность); пространственное приближение между посессором и объектом; отсутствие временных ограничений на отношения посессивности» (цит. по [3, с. 96]). Таким образом, общая схема прототипической принадлежности выглядит так:
-
а) субъект владения, или посессор;
-
б) объект владения;
-
в) пространство между ними;
-
г) время.
Старорусское притяжательные прилагательные соответствуют этой схеме, однако стоит уточнить некоторые её компоненты:
-
а) посессором может являться человек, несколько людей, библейское существо и животное;
-
б) объект владения может быть как неодушевленным, так и одушевленным;
-
в) объект может примыкать к посессору, быть его частью, а также отторжимым от него в пространстве;
-
г) темпоральная характеристика тесно связана с предыдущей, однако изменение настоящего времени на прошлое исключает само понятие притяжательности: прилагательное переходит в разряд относительных. Так, например, папины часы могут перейти к ребенку, то есть сменить реального владельца, однако это не отразится на плане выражения прилагательного. Из этого следует, что при лексикограмматическом анализе контекст должен быть шире словосочетания.
Основываясь на ранее описанной схеме, удалось выявить следующие семантические особенности притяжательных прилагательных в старорусском языке.
-
I. Владельцем является человек.
-
1. Посессор в единственном числе.
-
1.1. Неотторжимым объектом владения может быть:
-
-
а) часть тела: отъ того же м б ста, идеже лежаху кости апостоли , вземъ персть, привяза сын б своемъ (ВМЧ, Окт. 4-18, 827. XVI в.) (здесь и далее цит. по [4]); падая над закланным с˜новнымъ т -ьломъ , [мать] бияше в перси своя, тер-
- заше власы главы своея (Ж.ц.Дм., 14. XVII-XVIII вв.).
-
б) кровные родственники: посланниковъ принималъ арцыкнязевъ братъ (Итал. д., 977. 1656 г.); какъ де былъ онъ, Никонъ, въ митрополитахъ у насъ, въ Великомъ Новгород 6 , а тотъ де Иванъ старой митро-полический сынъ боярской... и Никонъ… говорилъ ему, Ивану, чтобъ онъ отвергся сына божия (Суб. Мат IV, 285. 1666 г.).
-
1.2. Отторжимый объект владения:
-
а) посессор назван фактически: умыс-ливъ же царь ити и открыти гробъ апо-столовъ ... (ВМЧ, Окт. 4-18, 827. XVI в.) ; и около де т б хъ р б чекъ княжие и боярские и монастырские вотчины и пом б стья (ААЭ I, 387. 1585 г.); а дворъ архиеписко-повъ блиско у собору, а роскатъ у воротъ архиепископова двора деревяннои великъ и высокъ (X. Котова, 73. XVII в. ̴ 1624 г.) .
-
б) посессор назван условно, т.к. прилагательное может иметь значение «предназначенный для человека вообще», имеется в виду наименования человека по профес-сии/должности, по качествам характера: уха плотничья (Кн. расх. кушаньям Адр., 5. 1698 г.) – предназначается для всех плотников, но в то же время она им принадлежит или (при изменении контекста) может принадлежать конкретному человеку; [дьяки] взяли [в казну]... пошлинъ ка-значеевыхъ и дьячьихъ и казенныхъ подья-чихъ четыре алтыны (АЮБ II, 747. 1580 г.) – эти пошлины собирались казначеем. Такие прилагательные несут в себе оба значения: принадлежности и свойственности – каждое из которых проявляется в определенном контексте.
-
в) объектом владения является человек или люди: (1480): местеровы люди да ар-цыбискупли да Вышегородокъ взяли (Псков. лет. II, 219.) ; а кого наместничи или волостелины люди учнут давати от ково на поруку до суда и после суда, и по ком поруки не будет (Суд. Ив. IV, 164. 1550 г.); а гс˜дрвых дворцовыхъ селъ, и черныхъ волостей, и с пом б щиковыхъ и с вотчинниковыхъ крестьянъ , з двора по четыре денги (Ул. Ал., 85. 1649 г.) .
-
2. В качестве посессора выступает группа людей, некое сообщество. Объектом владения может быть только неоттор-
жимый предмет: у него жъ [монаха Ефрема] есть посестриа и братьяные сродники (принадлежащие братьям). В то случае, когда объектом владения назван отторжимый предмет, прилагательное переходит в разряд относительных: вс я осадные люди цесарские и вс ^ хъ ево союзниковых <людей> ... из городов вывесть (Куранты4, 59. 1648 г.) – в этом примере посессивность выражена местоимением; приехал к ним Алеша Попович, говорит им таково слово: Братцы вы, калики перехожие! Давайте вы нам с себя платье каличье (Сказ. о бо-гатырях1, 366. 1682 г. ~ XVI в.)
-
II. Производящая основа обозначает животное .
-
1. Условно неотторжимый объект владения (часть тела): мясо агнчее, въ кръви агньчи, лапка белочия, кистей б ^ льчихъ -условность неотторжимости заключена в
-
2. Отторжимый объект владения. Посессор должен быть назван фактически: возми гн ^ здо ласточье и зам я шай с уксу-сомъ и свяжи [над строкой: привяжи] голову гд ^ болитъ (Кн. землед., 210. 1705 г.); толко норы зм е иные и мышьи (X. Котова, 84. 1624 г.). Если посессор назван условно, то такое прилагательное является относительным: дали есмя вкладом... шесть меринов и с снастью с лошадиною (Кн. Солов, вотч. креп., 114 об. XVII в.) – снасть предназначена для любой лошади. У того ж двора по сторону изба телячья (Арх.Он., № 407, 2 об. 1688 г.) – избу для телят построил человек.
том, что зачастую человек является реальным владельцем, а не животное.
В случае, когда объект владения создан из самого животного, однако реально принадлежит человеку, прилагательное не отражает посессивность: а дочери своей княз(ь) Михайло Андр ^ евичь пожаловалъ дал: шуба кована бархатъ червьчятъ… кортел<ь> белин (Дух и дог., гр., 312. 1486 г.) ; взяли у меня грабежем в калмыках калмыцкие люди… шубу бирюч<ь>ю (Астрах. а., № 2876. 1654 г.).
-
III. Производящая основа обозначает бога : во облаце Спасова рука (Кн.пер. Ипат.м., 14. 1595 г.); тако просвира зака-лаема бываетъ от иерея... и посл е ди пола-гаетъ ю въ потиръ, кровь Спасителеву (Суб.Мат. IV, 243. XVIII в. ~ 1668 г.).
Предложенная в статье классификация притяжательных прилагательных с точки зрения посессивности продемонстрировала следующие положения. Если объектом владения является человек, то конструкция с притяжательным прилагательным будет обозначать саму принадлежность. Когда речь идет о животном, даже о его теле, то здесь прилагательное не всегда будет указывать на реального посессора. В этом отражена специфика познания человеком действительности, однако при всей своей текучести «языковое сознание системно в том смысле, что любой его компонент, любые единицы, которыми оно оперирует, неизбежно связаны – прямо или опосредованно – с другими единицами, причем в каждом конкретном проявлении эта связь базируется на определенной иерархии актуальных для человека признаков» [5, с. 46].
Список литературы О семантике притяжательных прилагательных в старорусском языке
- Давлетшина, С. М. Анализ структурных особенностей категории посессивности // Вестник ТГПУ. - 2018. - №8 (197).
- Головачёва, А. В. К вопросу о содержательном аспекте категории посессивности // Категория притяжательности в славянских и балканских языках. - М.: Наука, 1983. - С. 19-26.
- Милованова, М. В. Понятие посессивности: проблемы определения и структуры // Вестник ВолГУ. Серия 2: Языкознание. - 2007. - №6.
- Словарь русского языка XI-XVII вв.: в 30 вып. / Ин-т рус. яз. - М.: Изд-во "Наука", 1975-2015.
- Карасик, В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. - Волгоград, 2002. - 477 с.