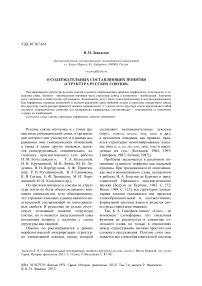О содержательных составляющих понятия "структура русских союзов"
Автор: Завьялов Виктор Николаевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 9 т.14, 2015 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается структура русских союзов в аспекте общеязыковых проблем морфологии, отдельности и тождества слова. Элемент - минимальная значимая часть структуры союза, а компонент - наибольшая. Элементы могут включать в свой состав субэлементы. Компоненты могут быть одноэлементными и неодноэлементными. Как морфемные единицы компонент и элемент реализуют свои значения только в структуре конкретного союза. На структуру союза распространяется понятие вариантности. С учетом этого структура союза представляет собой системно упорядоченное единство его материально выраженных составляющих - компонентов и элементов, а также их комбинаций.
Союзы, структура, морфемика, элемент, компонент
Короткий адрес: https://sciup.org/147219471
IDR: 147219471 | УДК: 81''367.634
Текст научной статьи О содержательных составляющих понятия "структура русских союзов"
Русские союзы изучались и с точки зрения вида синтаксической связи, в организации которого они участвуют, и в рамках выражаемых ими синтаксических отношений, а также в плане других языковых аспектов (конструктивных, семантических, логических, прагматических) (см. работы И. М. Богуславского, Т. А. Колосовой, И. Н. Кручининой, М. В. Ляпон, Ю. И. Ле-денева, В. Н. Перетрухина, А. Ф. Приятки-ной, Р. П. Рогожниковой, В. З. Санникова, К. Я. Сигала, Е. Ф. Троицкого, М. И. Черемисиной, Н. Н. Холодова и др.).
Но при всем интересе к союзам их структура почти не была объектом прямого внимания специалистов, хотя общепризнанно, что строение языковых единиц является неотъемлемой составляющей их категориальных свойств. В русистике не только отсутствует толкование понятия «структура союза», но и является дискуссионной сама постановка вопроса о наличии у союза структуры как таковой.
Обычно он рассматривается в рамках морфологической интерпретации структурно элементарной лексики, основу которой составляют незнаменательные лексемы (вдруг, потом, шоссе, боа, хаки и др.), а предметом описания, как правило, являются структурно немотивированные лексемы типа и, а, но, да, или, либо, что и аналогичные им (см.: [Богданов, 1984, 1997; Тимофеев, 1987; Литвин, 1987]).
Проблема заключается в различном понимании сущности морфемы как языковой единицы. При традиционном ее понимании, как части номинативного слова, заложенном в работах И. А. Бодуэна де Куртене и представителей Пражского лингвистического кружка [Бодуэн де Куртене, 1963. С. 272; Вахек, 1964. С. 121], вся структурно элементарная лексика оказывается вне пределов словообразовательной и, соответственно, формальной системы языка и является своего рода «простыми знаками».
Так, К. А. Тимофеев пишет: «Союз – не компонент словоформы, его смысловая функция не реализуется в семантике отдельного слова, но только в отношениях между структурными частями простого или сложного предложения. Поэтому союз оказывается вне словообразовательной системы
Завьялов В. Н. О содержательных составляющих понятия структура русских союзов // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 9: Филология. С. 85–90.
ISSN 1818-7919. Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2015. Том 14, выпуск 9: Филология
языка. Его звуковая оболочка не обнаруживает сходства ни с одной морфемой русского языка» [Тимофеев, 1987. С. 10].
С другой стороны, термин «морфема» понимается и как минимальный знак вообще, независимо от того, способен ли он свободно функционировать в речи или всегда составляет часть слова. Данный подход базируется на лингвистических принципах, отрицающих наличие «неморфемных» словесных единиц (см.: [Щерба, 1962. С. 100; Виноградов, 2001. С. 36–41; Милославский, 1981. С. 31–32; Маслов, 2005. С. 143–158] и др.).
Однако если в первом случае понятие морфемы толкуется предельно узко, без учета индивидуальных категориальных особенностей ряда языковых единиц (прежде всего служебных), то во втором, наоборот, – максимально широко, что ведет к упрощенному представлению о ней как о конституирующей единице лексико-грамматической системы русского языка.
В качестве одного из способов преодоления этого противоречия можно рассматривать идею Н. А. Слюсаревой, предположившей наличие особого «серво-логического» (от англ. to serve ‘служить, обслуживать’) уровня языка. Единицы этого уровня – «сервемы» (предлоги, союзы, частицы, артикли, связки и др.) – занимают промежуточное положение между морфемами и знаменательными словами. Сервемы характеризуются тем, что «обладают дифференциальными признаками слов, но функционируют как единицы низшего уровня – морфемы» [Слюсарева, 1969. С. 271].
Развивая это положение, С. И. Богданов предлагает рассматривать знаменательные и служебные части речи как «две в известной степени независимые сферы, две не зависящие друг от друга классификации, по существу, две разные морфологии, зачастую имеющие общий объект интерпретации» [1984. С. 177]. Они могут перекрещиваться, в силу того что значительная часть языковых форм «естественным образом соединяет в себе исходную знаменательность (например, “глагольность” или “нареч-ность”) с потенциальной способностью реализовывать некоторые служебные функции и значения (скажем, союзные или предложные), которые нормально выражаются при помощи специальных грамматических средств – служебных слов» [Там же]. При этом на грамматические морфемы-сервемы может быть распространено общее определение морфемы как минимальной двусторонней единицы языка, в которой «1) за определенным экспонентом закреплено то или иное содержание и которая 2) неделима на более простые единицы, обладающие тем же свойством» [Маслов, 2005. С. 143].
Однако в любом случае вопросы описания структуры союзов неразрывно связаны с проблематикой слова как такового.
В русистике имеется большое количество дефиниций слова и его интегральных признаков (см. работы В. В. Виноградова, А. И. Смирницкого, М. В. Панова, П. С. Кузнецова, Н. М. Шанского , Д. Н. Шмелева, В. Г. Гака, В. В. Морковкина и др.), что обусловлено его многогранностью как языковой единицы.
В связи с этим Ф. А. Литвин считает, что вопрос о «словности» служебных слов обусловлен в первую очередь «исходными позициями исследователя, с тем, в какой системе понятий он работает, как, в частности, представляет себе понятие “слово”» [1987. С. 77]. Если придерживаться положения о том, что слово характеризуется единством лексического и грамматического значения, то вопрос о «словности» служебных слов напрямую связан с признанием / непризнанием наличия у них лексического значения или с его расширенным толкованием. Если же понимать слово как часть письменного текста «от пробела до пробела», то возникает проблема отнесенности к цельнооформленным языковым единицам составных служебных лексем а то и , потому что , благодаря тому что , в течение , в связи с , едва ли , чуть ли не и под.
Мы полагаем, что в первом случае надо исходить из наметившегося в практике лингвистических исследований разграничения лексического значения слова на номинативное и релятивное. Например: «Служебные части речи не называют предметов, признаков, действий и др., их лексические значения (здесь и далее курсив наш. – В. З. ) сводятся к выражению тех отношений , которые они устанавливают между тем или к тому, что названо знаменательными словами и предложениями» [Шелякин, 2001. С. 575]. Это означает, что лексическое значение в одном из своих конкретных проявлений – как релятивное – присуще и союзу.
Что касается проблемы «словности» составных союзных лексем (т. е. не слитных графически), то она неразрывно связана с общими представлениями о структуре слова.
Данное понятие рассматривается специалистами с двух сторон: морфемной, когда объектом внимания является совокупность вычленяемых в словах морфем и их типы, и деривационной, представляющей образование производных и сложных слов по существующим в языке образцам и моделям. Эти факторы могут быть взяты за основу и при описании строения русских союзов, которое при всем внешнем разнообразии сводится к трем структурным группам:
-
1) союзы, представляющие собой отдельную «лексему-морфему» ( и, а, но, да, что, когда, если и др.);
-
2) союзы, являющиеся контактным соединением «двух или более лексем» ( да и , а именно , так как , потому что , с тем чтобы , тем более что , несмотря на то что и др.);
-
3) союзы, представляющие собой «дистантное соединение лексем» - как отдельных ( не ... а , если ... то , то... то... и др.), так и двух или более ( как ... так и , не столько ... сколько , не то чтобы ... но и , не то ... не то... и др.) (см.: [Рогожникова, 1975. С. 82-90]).
Союзы первой структурной группы практически полностью соотносятся с одноморфемными лексемами-корнями-основами типа там , вдруг , потом , шоссе , боа , хаки и др., и на них распространяются понятия «словности» и «цельнооформленности» в предельно конкретном и непротиворечивом их толковании.
Вторая структурная группа представляет интерес прежде всего с точки зрения отнесенности / неотнесенности к отдельному слову союзных лексем, не соответствующих его пониманию как части письменного текста «от пробела до пробела». Но графическая слитность (или, наоборот, раздельность) тех или иных языковых единиц не является решающей для отнесения (или неотнесения) их к самостоятельным лексемам (ср.: точь-в-точь // бок о бок; по двое // втрое; труднодоступный // трудно доступный и др.). Определяющими факторами здесь являются их функционирование в речи как единого целого независимо от слитного или раздельного графического оформления, а также воспроизводимость, чему подобные союзные лексемы, безусловно, соответствуют, ибо, согласно А. И. Смирницкому, «даже наименее цельное по своему строению слово все же оказывается по существу близким, в самом своем оформлении, к несомненно простому, монолитному слову, чем любое сочетание слов» [1952. С. 197]. А то, что союзные соединения да и, а именно, так как, потому что и др. ближе к «монолитному слову», чем к «сочетанию слов», сомнений не вызывает. Их нельзя квалифицировать и как фразеологические образования (см., например, [Аверина, 2004]): будь то относящиеся к номинативному составу языка [Виноградов, 1977; Телия, 1996] или к синтаксическому [Меликян, 2014], потому что они не несут экспрессивной функции и допускают свободное лексическое наполнение свя-зуемых ими частей предложений-высказываний. Не случайно Р. П. Рогожникова использует применительно к ним осторожное терминологическое выражение: «сочетания, эквивалентные слову» [2003].
Третья структурная группа союзов является специфической, не имеющей соответствия среди других типов слов. С одной стороны, в ней имеет место нарушение одного из общепринятых интегральных признаков слова - принципа непроницаемости. Но, с другой, нельзя не признать, что прочие, не менее значимые его признаки, в том числе цельнооформленность (как структурная целостность при функционировании) и воспроизводимость, наличествуют практически на тех же основаниях, что и во второй структурной группе. Поэтому данные союзы также можно квалифицировать как отдельные слова в одном из конкретных проявлений данного общеязыкового феномена.
Однако какие же составляющие можно выделить в структуре союза с учетом особенностей строения данного класса языковых единиц?
В исследованиях, посвященных союзам, широко применяются термины «элемент» и «компонент». Первый, как правило, используется при описании союзов второй структурной группы, другой - при описании третьей, когда компонентами именуются отдельные, позиционно разобщенные части таких союзов. Иногда эти термины упо- требляются как тождественные и даже взаимозаменяемые. В толковых словарях обычно даются следующие их определения:
-
«К ОМПОНЕНТ, -а; м. [от лат. compōnens ( componentis ) – составляющий]. Книжн. Составная часть чего-л.»;
«ЭЛЕМЕНТ, -а; м. [от лат. elementum – стихия, первоначальное вещество]. 1. Составная часть чего-л.; компонент. Разложить целое на элементы » [СТСРЯ, 2001. С. 283, 950].
Несмотря на идентичность формулировок («составная часть чего-л . »), говорить о тождественности обозначаемых данными терминами понятий нельзя, так как в зоне несовпадения значений лексемы «компонент» и «элемент» соотносятся между собой как общее и частное. Соответственно, это препятствует и взаимозамене терминов в определенных контекстах. Ср.: Разложить компоненты на элементы. Но: * Разложить элементы на компоненты .
Это дает основания для следующего определения структурных составляющих союза: элемент – минимальная значимая его часть (подобно морфеме), а компонент – наибольшая (подобно основе). Компоненты могут быть одноэлементными ( а , или , чтобы и др.) и неодноэлементными ( а также , да и , потому что и др.).
Основные признаки элемента заключаются в морфологической соотнесенности с другими языковыми единицами (частицами, местоимениями, предлогами, глагольными формами и др.) и написании через пробел (в неодноэлементном компоненте). Говоря о такой соотнесенности, мы исходим из принципов так называемой непарадигматической лингвистики, которая определяется как «дисциплина, стоящая между синтаксисом и морфологией» и одновременно обращенная «и к синхронии, и к глубокой диахронии» [Николаева, 2008. С. 49]. В этом же плане можно трактовать и рассмотренные выше подходы Н. А. Слюсаревой и С. И. Богданова к описанию строения незнаменательной лексики.
В элементе содержится семантико-грамматическая информация, участвующая в создании содержательной стороны компонента. Элементы могут включать в свой состав субэлементы, которые образуют с ним единое целое и пишутся графически слитно (потому что / *по тому что, чтобы / * что бы), хотя такое разграничение элементов и субэлементов в ряде случаев является чисто условным и не отражает в полной мере структурно-семантической сути подобных средств синтаксической связи. В свою очередь, признаки компонента состоят в наличии в его структуре элемента (или элементов), посредством чего он непосредственно участвует в создании содержательной стороны той или иной союзной конструкции. Как морфемные единицы, компонент и элемент реализуют свои значения только в структуре конкретного союза.
Но проблемы структуры русских союзов связаны не только с отдельностью слова, но и с его тождеством. А. И. Смирницкий подчеркивал, что «установление тождества слова (здесь и далее курсив автора. – В. З. ) в разных случаях его употребления предполагает, что в каждом из этих случаев оно выступает именно как отдельное слово по отношению к другим словам» [Смир-ницкий, 1952. С. 185].
Применительно к союзу эта проблема заключается в категориальной квалификации средств связи хотя и близких в содержательном плане, но частично отличающихся друг от друга в структурном (и, соответственно, в звуковом): а то и // а то , не…а // а не , не только…но и // не только…а и , то… то… // то…а то и , если не…то // если не и под.
Если рассматривать их как различные языковые единицы (см., например, [Леденев, 1988; Кобзев, 1999; Аверина, 2004]), то тогда понятие структуры союза по существу теряет свой онтологический смысл, так как заключается лишь во внешней характеристике ее составляющих. Но при учете планов выражения и содержания создаются условия для объединения подобных союзных средств в единый структурно-семантический комплекс, соотносящийся с общей называющей единицей – исходной формой. Показателями исходной формы союза являются минимальное количество компонентов, необходимых и достаточных для его устойчивого функционирования, а также определенный, закрепленный в процессе речевой деятельности набор элементов ( а то и , не…а , не только…но и , то… то… , если не…то ). Говоря иначе, «исходная форма союза – это стартовые условия его существования как цельнооформленной языковой единицы» [Завьялов, 2009. С. 13].
В этом случае термин «структура союза» приобретает необходимое смысловое наполнение и на него распространяется понятие «вариантность» как «фундаментальное свойство языковой системы и функционирования всех единиц языка» [Солнцев, 1997. С. 90].
Подход к структуре союза с точки зрения вариантности был заявлен в [ГСРЛЯ. С. 679]. При общей характеристике средств синтаксической связи, а также при описании сочинительных связей внутри простого предложения данный подход имеет место и в [РГ]. Он также получил развитие в исследованиях А. Ф. Прияткиной [2007] и ряда других авторов (см.: [Троицкий, 1990; Вар-наева, 2000; Завьялов, 2009; Енина, 2010; Семенова, 2015] и др.), являясь сегодня по существу основным.
С учетом явления вариантности структура союза представляет собой системно упорядоченное единство его материально выраженных составляющих – компонентов и элементов , а также их комбинаций . Это определение в максимально абстрагированной форме отражает объективную данность, на основе которой в русистике сложились различные классификации союзов по строению (см. [Завьялов 2009. С. 11–12]), и, кроме того, может способствовать решению ряда вопросов, связанных с описанием не только собственно союзов, но и средств синтаксический связи в целом, ибо такое понятие, как союз, не в полной мере отражает их индивидуальные языковые особенности ( коль скоро , благо что , тем более что , в том случае если , что касается… то и др.), что находит свое отражение, в частности, в различной терминологии, применяемой при их описании.
Например, в [РГ, 1980], по наблюдениям Т. А. Колосовой и М. И. Черемисиной, для обозначения связующих средств используется несколько терминов и терминологических выражений (союз, аналог союза, союзный аналог, союзное соединение, союзное сцепление, союзное сочетание), но при этом «связанные с ними понятия не разграничены, четко не определены» [Колосова, Черемисина, 1987. С. 124]. Это явилось основанием для введения в активный научный оборот представителями Новосибирской научной школы, и прежде всего М. И. Черемисиной, терминологического понятия «скрепа». Оно объединяет в себе все средства синтаксической связи в отвлечении от их частных свойств, но в то же время допускает возможность их класси- фикации в рамках тех конкретных классов языковых единиц, которые они представляют. Применение к описанию скреп структурных принципов, изложенных нами (там, где это допустимо), может способствовать более тонкой и последовательной их дифференциации в этом плане.
Завершить же нашу статью мы хотим словами А. И. Смирницкого: «Само собой разумеется, что языковая действительность гораздо сложнее и многообразнее того, что было представлено во всем предыдущем изложении. Но, думается, что для ориентации в крайне обширной и крайне сложной системе всякого развитого языка необходимо выделить какие-то главные, наиболее значимые черты его строения, некоторую общую схему соотношения ее частей: тогда и разнообразные переходные и промежуточные образования, различные частные случаи, пережиточные явления и первые ростки нового смогут быть лучше поняты» [1952. С. 203].
ON SUBSTANTIAL PARTS OF THE CONCEPT ‘STRUCTURE OF RUSSIAN CONJUNCTIONS’
Список литературы О содержательных составляющих понятия "структура русских союзов"
- Аверина М. А. Структурно-семантические и функциональные свойства фразеологизмов-союзов: Дис. … канд. филол. наук. Челябинск, 2004. 195 с.
- Богданов С. И. Собственно морфемный анализ и морфологическая интерпретация структурно элементарной лексики русского языка: Дис.. канд. филол. наук. Л., 1984. 220 с.
- Богданов С. И. Форма слова и морфологическая форма. СПб.: СПбГУ, 1997. 247 с.
- Бодуэн де Куртене И. А. Избранные тру-ды по общему языкознанию. М.: АН СССР, 1963. Т. 1. 384 с.
- Варнаева А. Е. Значение и функции союза не только … но и в современном русском языке: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Орел, 2000. 23 с.
- Вахек Й. Лингвистический словарь Пражской школы. М.: Прогресс, 1964. 352 с.
- Виноградов В. В. Русский язык (грамматическое учение о слове)/Под ред. Г. А. Золотовой. 4-е изд. М.: Рус. яз., 2001. 720 с.
- Виноградов В. В. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке//Виноградов В. В. Избранные труды. Лексикология и лексикография. М.: Наука, 1977.
- Грамматика современного русского литературного языка/Отв. ред. Н. Ю. Шведова. М.: Наука, 1970. 768 с.
- Енина Н. А. Варианты союза не то что Рогожникова Р. П. Толковый словарь со-(бы) … а (но)//Мир русского слова. 2010. № 3. С. 49-52.
- Завьялов В. Н. Морфологические и синтаксические аспекты описания структуры союзов в современном русском языке: Автореф. дис. … д-ра. филол. наук. Владивосток, 2009. 43 с.
- Кобзев П. В. Сложные предложения с союзом «А ТО И»//Проблемы современной филологии. Тверь, 1999. C. 207-215.
- Колосова Т. А., Черемисина М. И. Очерки по теории сложного предложения. Новосибирск: Наука, 1987. 198 с.
- Леденев Ю. И. Неполнозначные слова: Учеб. пособие. Ставрополь, 1988. 88 с.
- Литвин Ф. А. Полисемия и омонимия служебных слов//Служебные слова. Новосибирск, 1987. С. 76-83.
- Маслов Ю. С. Введение в языкознание. 4-е изд. СПб.; М.: Академия, 2005. 304 с.
- Меликян В. Ю. Синтаксическая фразеология русского языка: Учеб. пособие. М.: ФЛИНТА, 2013. 351 с.
- Милославский И. Г. Морфологические категории современного русского языка. М.: Просвещение, 1981. 256 с.
- Николаева Т. М. Непарадигматическая лингвистика (история «блуждающих частиц»). М.: Языки славянских культур, 2008. 376 с.
- Прияткина А. Ф. Русский синтаксис в грамматическом аспекте (синтаксические связи и конструкции): Избр. тр. Владивосток, 2007. 390 с.
- Русская грамматика/Гл. ред. Н. Ю. Шведова. М.: Наука, 1980. T. 1. 784 с.; Т. 2. 710 с.
- Рогожникова Р. П. Структурные типы служебных слов (предлоги, союзы) в толковых словарях русского языка//Современная русская лексикография. Л.: Наука, 1975. С. 78-90.
- Рогожникова Р. П. Толковый словарь сочетаний, эквивалентных слову. М.: Астрель: АСТ, 2003. 416 с.
- Семенова И. В. Дериваты союза если (на материале служебных новообразований, возникших на базе если). Хабаровск, 2015. 130 с.
- Слюсарева Н. А. О некоторых проблемах иерархической организации языка//Единицы разных уровней грамматического строя и их взаимодействие. М., 1969. С. 269-273.
- Смирницкий А. И. К вопросу о слове (проблема отдельности слова)//Вопросы теории и истории языка. М.: АН СССР, 1952. С. 182-203.
- Солнцев В. М. Вариантность//Русский язык. Энциклопедия/Гл. ред. Ю. Н. Караулов. М.: БРЭ; Дрофа, 1997. С. 60-61.
- Современный толковый словарь русского языка/Гл. ред. С. А. Кузнецов. СПб.: Норинт, 2001. 960 с.
- Телия В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. М.: Языки русской культуры, 1996. 288 с.
- Тимофеев К. А. Морфемный статус служебных слов//Служебные слова. Новосибирск, 1987. С. 5-11.
- Троицкий Е. Ф. Компоненты сочинительной конструкции и их взаимоотношения: Автореф. дис. … д-ра филол. наук. М., 1990. 30 с.
- Шелякин М. А. Служебные части речи//Современный русский язык: Учебник/Под ред. Л. А. Новикова. СПб.: Лань, 2001. С. 575-582.
- Щерба Л. В. О дальше неделимых единицах языка//Вопросы языкознания. 1962. № 2. С. 99-102.