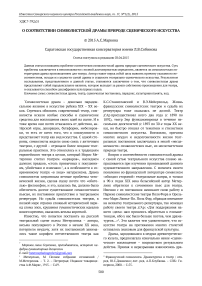О соответствии символистской драмы природе сценического искусства
Бесплатный доступ
Данная статья посвящена проблеме соответствия символистской драмы природе сценического искусства. Суть проблемы заключается в невозможности с полной достоверностью определить, является ли символистская литературная драма произведением для театра. Автор ставит перед собой цель выявить причину указанного несоответствия, исходя из сущности самой драмы и сущности театрально-сценического искусства. Результатом исследования, представленного в данной статье, становится заключение о том, что символистская драма представляет собой парадоксальное явление, которое выходит за рамки собственно произведения для театра, и оказывается способом дешифровки культурных кодов.
Символистская драма, театр, сценическая постановка, парадокс, культурная память, код
Короткий адрес: https://sciup.org/148102101
IDR: 148102101 | УДК: 7-792.01
Текст научной статьи О соответствии символистской драмы природе сценического искусства
° Символистская драма - довольно парадоксальное явление в искусстве рубежа XIX – XX веков. Стремясь обновить современный театр, символисты искали особые способы и сценические средства для воплощения своих идей на сцене. И в тоже время они почти отказались от действия, актёрской игры, декорации, бутафории, мебелиров-ки, то есть от всего того, что в совокупности и представляет театр как вид искусства. С одной стороны, символисты видели свою связь с античным театром, с другой – отрицали более поздние театральные практики. Это относилось и к традициям европейского театра в целом, который Морис Метерлинк считал театром «варваров», наследием далеких предков, «столь привычных к покушениям, убийствам и изменам» 1 , а в особенности к современному театру «в лице» натурализма. Драма символистов затрагивала вечные проблемы человеческой жизни, сделав сцену почти что «обителью» философии, и это, казалось бы, должно было обеспечить долгое существование символистским пьесам, их постоянное присутствие в театральном репертуаре. Но судьба символистских театров, в полной мере отразив сложный исторический период слома эпох, крушения гуманистических идеалов нового времени, оказалось весьма короткой.
Известно, что попытки поставить на русской театральной сцене пьесы Метерлинка – автора, весьма популярного в России в начале XX века, потерпели неудачу, хотя их постановкой занимались такие корифеи отечественного театра как
Маркова Анна Сергеевна, преподаватель, аспирант кафедры гуманитарных дисциплин.
К.С.Станиславский и В.Э.Мейерхольд. Жизнь французских символистских театров и судьба их репертуара тоже оказалась не долгой. Театр д’Ар просуществовал всего два года (с 1890 по 1892), театр Эвр функционировал в течение нескольких десятилетий (с 1893 по 30-е годы XX века), но быстро отошел от тематики и стилистики символистского искусства. Возможно, причина многих неудач и недолговечности жизни театральных постановок заключалась в некой «несце-ничности» символистских пьес, их несоответствии природе театра.
Вопрос о соотнесённости символистской драмы с самой сутью театрального искусства словно напрашивается при изучении произведений данного художественного направления. С момента своего появления во французской литературе символизм «обходил стороной» театральные жанры, и только в 90-х годах XIX века бельгийский автор Метерлинк обратился к сочинению пьес для театра. Именно с их постановок начинают свою работу в Париже символистские театры Поля Фора и Орельена-Мари Люнье-По. Поль Фор, обращая внимание на нехватку театрального репертуара, так освещал работу своего театра д’Ар: «Для поддержания нашего «дела» нам пришлось обратиться к елизаве-тинцам, ибо у нас было больше поэтов, чем драма-тургов…» 2 . Это кажется тем удивительнее, что искусство театра на протяжении многих столетий оставалось знаковым для французской культуры.
Драма, зародившаяся в недрах древнегреческого культа, предполагала изначально некое «сценическое» воплощение – посредством ритуального действа. Прямая и неразрывная взаимосвязь дра- мы и театра стала, таким образом, определяющим признаком драмы как рода литературы. Драматурги разных эпох часто создавали свои произведения с учетом их предполагаемой постановки на театральной сцене. И драматурги-символисты не стали здесь исключением. Так, Поль Верлен ожидал увидеть свою пьесу «Одни и Другие» на подмостках театра Одеон, Маргерит Эмери-Валетт, издававшаяся под псевдонимом Рашильд, стала автором, чьи драмы вошли в репертуар первых программ театра д’Ар. А сценической площадкой для «Пел-леаса и Мелизанды» Метерлинка могли быть обширные угодья нормандского аббатства, в котором проживал сам автор (об этом сохранились воспоминания Станиславского). Но не противилась ли этим попыткам реализации на сцене сущность символистской драмы?
Вероятнее всего, эту сущность можно уловить и попытаться описать, обратившись к природе самого символа. Ю.М.Лотман обращает внимание на традицию истолкования символа «как некоторого знакового выражения высшей и абсолютной незнаковой сущности» 3 . Подобного рода сущность трудно переводима на язык любого рода понятий и определений, именно в силу своей «незнаково-сти», и, следовательно, не поддаётся однозначному истолкованию. Особенность символа – в невозможности раз и навсегда ограничить поле его смыслов, символ неисчерпаем, и содержит в себе потенцию к развёртыванию при каждой новой попытке его раскрытия.
Неоднозначность, а, вернее, многозначность символа породила расплывчатость, туманность образов, сценических ситуаций, языка символистских драм, что ставилось в упрёк их авторам. Символистов обвиняли в отсутствии какой-либо логики рассуждений на страницах их произведений, считали, что подобное отсутствие приводит к обилию слов, за которыми не стоит сколько-нибудь глубокое содержание. Русский критик Н.К.Ми-хайловский остроумно охарактеризовал подобную смысловую дезорганизацию как «наводнение слов в пустыне мысли»4. В этих проявлениях неоднозначности противники символизма видели главный недостаток пьес, вместо того, чтобы расценить их как достоинства, а не препятствие к воплощению драм на театральной сцене. Синтетическая природа театра здесь столкнулась с древней синкретической природой символа, а, следовательно, и с синкретичностью символистских пьес. Конечно, история знает и более ранние примеры подобной синкретичной драмы как рода литературы, – ею была античная трагедия, столь ценимая символистами. Трагедия почиталась ими как образец истинной театральной драматургии, и имела много общего с символистскими произведениями для театра. Обращение к вечному, а не сиюминутному, внутренняя деятельность души, при внешней малой подвижности тела, особая роль слова, смыслообразующая функция которого порой не сводится к его прямому значению, - все это нашло отражение и в древнегреческой трагедии, и в символистской драме. В обоих случаях символ проявлял себя как хранитель культурной памяти, и театральная постановка, в это случае, должна была бы обеспечивать необходимый доступ к сокровищам культуры.
При рассмотрении символистской пьесы вне контекста идеи театральной постановки, возникает искушение свести символистскую драму к понятию Lesedrama («драма для чтения»), весьма популярному в XIX веке. Как и в «драме для чтения», в символистских пьесах очень весом «голос автора», часто авторские комментарии выходят далеко за рамки дополнений, необходимых для адекватной реализации произведения на сцене. Эти комментарии превращаются в особый, не рамочный, текст, обладающий собственными художественными достоинствами и сливающийся по стилистике с основным текстом драмы. Например, в драме Рашильд «Мадам Смерть» появление персонажа, обозначенного писательницей как Женщина в вуали, сопровождается следующим комментарием – «у кипарисов появляется серая фигура, окутанная белыми туманами» 5 . Если в данном случае целью автора было оставить указания для режиссёра, то формулировка могла бы быть более конкретной, к примеру, «у кипарисов появляется фигура в сером платье, окутанная белым прозрачным покрывалом». Это направило бы работу режиссёрской мысли по определенному руслу, но, похоже, у Рашильд не было подобного намерения. Избегая прямой дешифровки символа, авторы предоставляли право режиссёрам, актёрам, декораторам и всем, кто имел отношение к театральному искусству, самим найти путь к культурной памяти, которая должна быть общей у артистов и публики.
С другой стороны, постановки символистских драм позволяли вынести рамочный текст на театральную сцену. Так случилось со спектаклем по пьесе Пьера Кийяра «Девушка с отрезанными руками» в 1891 году в театре д’Ар. Чтица, которая находилась на авансцене, разъясняла публике происходящие события через описание места действия, комментировала поступки персонажей, характеризовала их. Сами персонажи находились в глубине сцены за занавесом и декламировали стихи, представлявшие собой основной текст пьесы. Такое драматургическое решение Кийяра позволило «голосу автора» зазвучать со сцены, и сделать его равноправным участником действия. Авторская ремарка в данном случае утратила свою сугубо прикладную функцию, и поднялась до уровня художественного текста.
Сама по себе «драма для чтения» может трактоваться как идея театра, неовеществелённый театр, как потенциал театрального искусства. Это указывает на близость «драмы для чтения» и символа, что предполагает возможность реализации не только в устоявшихся, но и в иных формах овеществления. Символистский театр, как и Lesedrama, «разыгрывает представление» в сознании читателя в момент его зрительного контакта с текстом. Нечто подобное должно было происходить и при театральных постановках символистских пьес, где роль сценического решения не определялась поиском «верной» трактовки литературного произведения, а служила толчком для зрителей, пробуждала к работе их воображение. Поль Фор считал, что путь к этому лежит через магию слова, его звучание способно пробудить фантазию публики к действию. Слово должно было породить в сознании воспринимающей стороны всю необходимую театральную атрибутику постановки – костюм, бутафорию, декорацию, и т.п. Так через способность суггестивного воздействия слова-символа мог быть открыт доступ к душе зрителя, и это же – доступ к реализации символистской драмы. Когда-то в древности опыт театрального переживания у публики был коллективным, выступал как насле- дие дионисийского культа и вырабатывался в условиях «полисного» социума греков. Наличие подобного «полисного» сознания обеспечивало античной публике тот контакт с театральным произведением и его воплощением, который подразумевался не только автором, но и самим укладом жизни общества. Однако к XIX веку отдельная личность вполне могла в ходе индивидуального переживания драмы в собственном воображении открыть доступ к «кодам» культуры. Отдельный человек стал способен «заразить» себя неким внутренним действом, подобно тому, как срабатывал механизм коллективной памяти у древних греков. Такая память культуры в период расцвета символизма у человека рубежа столетий могла найти выход при соприкосновении и только с письменным текстом, создать эффект «заражения» действом, представленным не на сцене, а лишь на бумаге. Тем самым, символистская драма оказалась в двойственном положении. С одной стороны, исторический и теоретический аспекты утверждают её соответствие театральной природе, но с другой – практический аспект во многом отрицает это, доказательством чему могут служить уже указанные неудачные постановки символистских пьес и недолгая судьба самих театров. Театральность этих пьес проявляется не в режиссёрской интерпретации, а в суггестивном контакте писателя-драматурга со зрителем-читателем через материю текста. Визуальный ряд символистской драмы выявил потенцию к самопорождающей природе «внутреннего театра», к нивелированию вербального смысла слова и сценической атрибутики. «Драма для чтения» и «драма для представления» – два пути, или, возможно, два потока, текущие по единому каналу доступа к памяти культуры, который открыло искусство символизма.
ON THE CORRESPONDENCE BETWEEN SYMBOLIST DRAMA AND NATURE OF PERFORMING ART
Saratov State Conservatoire
Список литературы О соответствии символистской драмы природе сценического искусства
- Метерлинк, М. Полное собрание сочинений/М.Метерлинк. -Т. 2. -Петроград: Издание товарищества А.Ф.Маркс, 1915. -С.69.
- Французский символизм. Драматургия и театр/отв. ред. Ю.С.Довженко; лит. ред. А.П.Клубкова. -СПб.: Гиперион, 2000. -С.55.
- Лотман, Ю.М. Символ в системе культуры/Ю.М.Лотман//Лотман Ю.М. Избранные статьи в 3-х томах. -Т.1.: Статьи по семиотике и типологии культуры. -Таллин: Александра, 1992. -С.191.
- Михайловский, Н.К. Русское отражение французского символизма//Михайловский Н.К. Литературная критика: статьи о русской литературе XIX -нач. XX в./сост. Б.Аверин. -Л.: Худож. лит-ра: Ленинг. отд., 1989. -С. 460.