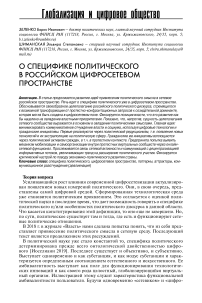О специфике политического в российском цифросетевом пространстве
Автор: Зеленко Борис Иванович, Шиманская Эльвира Степановна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Глобализация и цифровое общество
Статья в выпуске: 3, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье продолжается развитие идей привнесения политического смысла в сетевое российское пространство. Речь идет о специфике политического уже в цифросетевом пространстве. Обосновывается своеобразное целеполагание российского политического дискурса, стремящегося к возможной трансформации от протестно-конфронтационных запросов к созидательной доминанте, которая могла быть создана в цифросетевом поле. Фиксируется позиция власти, что это развитие как бы нацелено на овладение властными приоритетами. Показано, что, напротив, сущность целеполагания сетевого сообщества выражается в основном в овладении политическими смыслами. Главная идея: минимизировать коммуникативное отчуждение власти и социума, используя цифровые технологии и гражданские инициативы. Первые реализуются через политический редукционизм, т.е. появление новых технологий и их экстраполяцию на политическую сферу. Гражданские же инициативы воплощаются через политический активизм граждан, в т.ч. в протестном контексте. Предпринята попытка выявить механизм мобилизации и самоорганизации внутри протестных виртуальных сообществ через онлайн-сетевой функционал. Прослеживается связь сетевой активности и коммуникаций с децентрализацией информативных потоков, увеличивающих тренд на расширение политического участия. Фиксируется критический настрой по поводу экономико-политического развития страны.
Специфика политического, цифро-сетевое пространство, паттерны, аттракторы, коммуникационное разотчуждение (деалиенация)
Короткий адрес: https://sciup.org/170171153
IDR: 170171153 | DOI: 10.31171/vlast.v28i3.7291
Текст научной статьи О специфике политического в российском цифросетевом пространстве
Теория вопроса
Усиливающийся рост влияния современной цифросетевизации актуализирован появлением новых измерений политического. Они, в свою очередь, представлены самой цифровой средой. Сформированная технологическая среда уже становится политическим проявлением. Это согласуется с оценкой политической науки в последнее время, что дает возможность говорить о специфике политического и/или особенностях политического дискурса в данной области. Что касается конституирования этой дефиниции, то оно еще не завершено. Но, по сути, политическое существует там и тогда, где есть и функционируют сетевые политические отношения .
В 2018 г. в журнале «Власть» нами сделана попытка понять, что из себя представляет привнесение политического смысла в сетевую среду. Последующий текст является продолжением этих рассуждений.
В политической науке уже стало константой то, специфика политического детерминирована прежде всего онтологической двойственностью цифрового [Иоселиани 2019]. Последнее существует и объективно, и субъективно. Выступает одновременно и как субстанция, и как модус субстанции и характеризуется определенным соотношением естественного и искусственного. Ее амбивалентность выступает как поле для функционирования технологических инноваций и как своего рода целостный, глобализирующийся виртуальный организм. Иллюстрацией этому служит характеристика функциональной амбивалентности пользователя. Будучи одновременно «сетевиком» и «цифро- виком», он сам является «медиа» со своим контентом и тиражом, со своей собственной платформой, чаще становится и «политическим пользователем».
Аналитика исходит из того, что цифросетевизация – это новая форма социализации и даже приобретаемой идентичности, когда онлайновый социальный капитал и его быстрое накопление переходит в качественные формы гражданского и политического участия [Гвоздиков 2019]. Осуществляется это через систему онлайн-участия, выступающую аттрактором для разрозненных действий и поведенческих цепочек. Система заставляет работать на себя, преобразовывая политические паттерны реальности в цифросетевые паттерны. Политическое проявляется здесь уже в конвенциональном смысле. Механизм положительной обратной связи формирует политические и гражданские конвенции цифросетевой среды. Ориентация на существующий политический мейнстрим способствует вовлеченности в систему онлайн-участия, а также ведет к воспроизводству политических образов. В результате происходит политическое тиражирование паттерна. Примерно таким же образом, на наш взгляд, осуществляется генерация политических отношений в цифросетевом пространстве.
Из сказанного вытекает, что в процессе дигитализации специфика политического обусловлена встроенностью в электронный формат. Характерно то, что посредством новых медиа формируется политический дискурс именно в процессе сетевой интеракции в цифровой среде, где выстраиваются собственные информационные потоки. Современные сетевые медиапроекты не требуют непосредственного участия в создании контента в постоянной коммуникации. Все фрагменты уже заложены в электронную программу. Пользователь лишь собирает из них новую комбинацию с политическим содержанием. Вместе с этим зарождаются сообщества акторов, поддерживающих создание таких комбинаций на постоянной основе. Акторы продуцируют такого рода информацию и осуществляют онлайн- и офлайн-коммуникацию [Кашпар 2019].
В будущем внедрение в дигитализационный процесс когнитивных систем позволит использовать непрерывное перепрограммирование пользователя и эффективнее прогнозировать политические последствия тех или иных действий.
Изложенное подводит нас к когнитивистике рассматриваемого вопроса, а именно, в чем выражается целеполагание политического дискурса в этой сфере. В Российской Федерации это обусловлено актуализацией социально-политических отношений между властью и социумом вообще и властью и цифросетевым пространством в частности. Здесь все, как свидетельствует фактическая реальность и реальность виртуальная, взаимно детерминировано. Общественная потребность заключается в стремлении к желательной трансформации от протестно-конфронтационных запросов к созидательной доминанте, которую можно было бы создать в цифросетевом поле. Но власть не уверена, что в этом случае такого рода развитие не нацелено на овладение властными приоритетами, если не на их захват. Однако сущность целеполагания сетевого сообщества выражается в основном в овладении именно политическими смыслами.
Подобного рода позиция власти актуализирует необходимость преодоления создавшегося в современной России так называемого коммуникационного провала между властью и гражданским обществом. Когнитивистика позволяет здесь формулировать более точно: это «коммуникационного отчуждение», т.е. коммуникационная алиенация. Такой подход укладывается в логику генерации неинституционализированных сетевых акторов, происходящей под воздействием ризомной сетевой самоорганизации. В коммуникативной онлайн-среде создаются ризомные (неявные, обладающие способностью развиваться в любом направлении и принимать произвольную форму, некорневую конфигурацию) дискурсивные сети. Ризомная коммуникативная онлайн-среда способствует формированию автономных от вертикали власти сетевых сообществ вне политического представительства и участия.
Механизм ризомной сетевой самоорганизации содействует появлению как принципиально новых политических акторов, так и нового политического дискурса в связке «власть – социум», что позволяет коммуницировать с властью на равных и способствовать процессу коммуникативного разотчуждения (деалиенации). В этом качестве ризомный принцип выступает реальным деалиенато-ром в коммуникативных отношениях власти и социума.
Это как раз вписывается в процесс коммуникативного разотчуждения, т.к. использует коммуникационные возможности цифросетевых акторов путем различных электронных практик, что достаточно полно отражено в литературе. Вместе с тем политическая наука обосновывает и необходимость встраивания сетевых гражданских инициатив в современные политические отношения, что позволит структурировать неиерархическое пространство сетевых коммуникаций.
Минимизация данного отчуждения учитывает специфику политической активности цифросетевых акторов. В концентрированном виде уже обозначился соответствующий тренд. Вначале он был интернет-активизмом, сейчас уже рассматривается активизм гражданский и политический. Такое разделение можно считать искусственным, поскольку, исходя из сущего, и тот и другой активизм во многом тождественны. Императивы государства и социума культивируют активизм гражданина, влияют на него, т.е. это субъект-объектные отношения, при которых гражданское самосознание перетекает в политическое сознание до превращения человека из объекта в субъект. Иначе говоря, политически осознавший себя индивид – уже субъект гражданственности и наоборот [Михайленок, Щенина 2018].
Практика политического активизма в цифросетевую эпоху:
протестный контекст
В данном ракурсе активизм политического сетевого гражданина вполне реально может способствовать коммуникативному разотчуждению власти и общества. В этих условиях трудно переоценить значимость информационного пространства в подготовке и координации коллективных действий при отсутствии централизованной организации. Если до некоторого времени управление информационными потоками осуществлялось исключительно властью, то с развитием сетевой активности и коммуникаций в Интернете происходит децентрализация информационных потоков, что в значительной степени увеличивает шансы на расширение политического участия. Одновременно интенсифицировалось, однако, и противодействие сетевым политическим протестам со стороны властных структур, например, такие стратегии, как игнорирование либо уступки, силовые действия, уголовное преследование, дискредитация лидеров протестного активизма, хакерские атаки, усиление контроля за деятельностью в Интернете.
С учетом данных обстоятельств представляется важным обратить внимание на процессы, протекающие в России внутри виртуальных сообществ протестной направленности, а также попытаться выявить механизмы их мобилизации и самоорганизации посредством социальных онлайн-сетей. В этих целях применяются различные технологии, базирующиеся на достижениях цифровизации, в т.ч. широко используется платформа Интернета и сети мобильной связи. Это свидетельствует о трансформации традиционных форм коллективного дей- ствия и конструировании коллективной идентичности, что значительно повышает результативность при достижении поставленных целей.
С изменением способов организации протестной активности (имеется в виду организация протестов по сетевому принципу) одновременно происходит трансформация форм ее проявления, хотя нельзя списывать со счетов по-прежнему существующие традиционные формы организации протестных движений.
Создаваемые протестующими информационная среда и инфоконтент определенным образом оказывают влияние на восприятие гражданами функционала органов власти, их решений и политику в целом. Отсюда вывод: сетевая протестная активность неизбежно приобретает политическую направленность.
В политологических исследованиях можно встретить определение сетевого политического протеста как формы коллективного действия, ориентированного на оспаривание социальных норм, устранение сформировавшихся дисбалансов в общественно-политических отношениях посредством различных инструментов мобилизации ресурсов на основе сетевого взаимодействия с использованием цифровых технологий и новых медиаформатов [Тимофеева 2014]. С нашей точки зрения, можно добавить и такие отличительные особенности функционала сетевого политпротеста, как равноправие, добровольность, гибкое лидерство, личная вовлеченность, взаимообмен ресурсами во имя достижения общих целей и, естественно, горизонтальная коммуникация.
Принято считать, что в России Интернет и социальные сети впервые сыграли политически важную роль в ходе предвыборной кампании 2011–2012 гг., когда в режиме реальности произошло ценностное разделение российского общества. Именно использование Интернета, а с его помощью – сетевых коммуникаций и технологий организации коллективного действия явилось одним из факторов, способствующих этому разделению. Политические требования не стали актуальными для большинства граждан, которые не желали перемен в сложившемся социальном порядке, поэтому поддерживали власть. К тому же социологические опросы не выявили связь между уровнем протестных настроений и политической протестной активностью.
Со временем все большую значимость в жизни российского общества приобретают новые ценности. Это качество жизни, справедливость, право на самовыражение, охрана окружающей среды. Именно в их защиту формируется сетевой политический активизм последнего десятилетия. Ярким свидетельством этому явились протестные акции 2019 г. как в различных регионах России, так и в мире. Можно говорить о возрастающей социально-политической активности и даже агрессии. Отличительная особенность их всех состоит в том, что они происходят в новой информационно-коммуникационной среде; почти повсеместно лишены выраженного лидерства и системы требований и не имеют внятной повестки; выражают общее недовольство происходящим. Определенное значение имел и повсеместный рост имущественного неравенства, неудовлетворенность качеством жизни, устаревание национальных и мировых элит, разрушение системы социализации и достижения социального согласия.
Однако в 2019 г. протестный потенциал в нашей стране был неоднозначным, в каждом регионе протест шел по своему уникальному сценарию. Митинги и протестные акции прошли в 50 регионах страны и своей массовостью вызвали у власти, так скажем, удивление. Однако российский сетевой политический протест не вошел в стадию радикализации. В какой-то степени это был урок гражданской ответственности.
Отмечалось, что в некоторых субъектах РФ жители стали охотнее и активнее заявлять о своих проблемах и несогласии с действиями властей; была обо- значена необходимость социально-политических перемен, есть осознание очевидного – модели социально-экономического и политического развития исчерпали себя. Например, московские протесты 2019 г. показали, что граждане полны решимости вернуть себе право быть соучастниками политического процесса. В России протестовала не только столица. И снова повод исходил от власти – недовольство было вызвано планами проведения мусорной реформы, экологической политикой.
Наблюдение за протестными акциями в современной России, начиная с перестроечных времен, показывает, что их стихийный характер (митинги и пр.) приобретает все более организованные формы. По меткому замечанию О.Н. Яницкого, мы становимся свидетелями возникновения логистики массового протеста [Яницкий 2013].
Это стремление проявилось повсюду в мире: на Западе – те же протесты «желтых жилетов» или выступления профсоюзов во Франции с требованием пересмотра пенсионной реформы; в странах Латинской Америки, в Гонконге или на Ближнем Востоке, т.е. везде, где сосредоточены ресурсы. Характерным для нынешнего этапа политического активизма явилось то, что у протестующих нет лидеров, но есть силы, оказывающие влияние. Пространство недовольства не едино, но показателен рост запроса на перемены, политические свободы и равенство перед законом, а также то, что обществу необходимы каналы выхода для недовольства и протеста, который имеет легитимность. Самоорганизация протестного активизма представляет собой пусть еще несовершенную, но сетевую структуру.
Тренды развития общественно-политической и социально-экономической ситуации последних лет привели к созданию накопительного эффекта недовольства и протестного настроения в современном обществе как в России, так и во всем мире. Динамика политической сетевой протестной активности зависит от конкретной политической обстановки в стране и заинтересованности инициативных групп граждан в выступлении по политическим вопросам.
В России по мере приближения выборов 2021 г. и 2024 г. политическая ситуация будет, возможно, турбулентной. Еще рано свидетельствовать о наличии взаимозависимости между постепенным «накопительным» ростом протестных настроений и нарастанием политической протестной активности. Политический сетевой протест еще широко не поддержан большинством населения России. Однако можно говорить о таком явлении, как радикализация политического процесса в российском обществе, который мы наблюдаем со второй половины 2018 г. (после принятия пенсионной реформы).
Ответные меры со стороны государства последовали незамедлительно: ужесточен режим функционирования НКО, введен статус «иностранного агента» для физических лиц, определен регламент пользования интернет-ресурсами, названы регионы, чьи руководители не справляются с работой по линии внутренней политики.
Под влиянием этих факторов политическая социология фиксирует примеры политического антиактивизма, влияющие на нормальное течение коммуникативного деалиенационного процесса. Наиболее значимые из них – это политическая бедность, абсентеизм, утрата доверия и др. Перепады в социально-экономическом положении моделей, порождающие коммуникационное отчуждение от власти, реально отразились в появлении политической бедности. В политологии она трактуется как неспособность группы граждан эффективно участвовать в демократическом процессе и их очевидная незащищенность перед последствиями намеренно или ненамеренно принятых решений. Политическая бедность коррелирует с материальной бедностью, выводит граждан из публичной сферы. Их пассивность воспринимается как согласие с проводимой политикой. Так, социологи в США и России выявили, что «политическим бедным» в обеих странах является каждый третий гражданин, что не может не сказываться на их политическом активизме.
В РФ институты политического участия, сетевого активизма контрастируют с офлайн- и онлайн-абсентеизмом всех возрастных групп россиян, что усугубляет конфликт формальных и неформальных практик.
В условиях глобального падения доверия к институтам власти спрос на ее легитимность особенно высок. Согласно опросу Edelman Trust Barometer , общий уровень доверия к власти в мире в 2019 г. составил 50%, в РФ – 29%.
Специфика политического в рассмотренной сфере достаточно рельефно проявляется в гражданском активизме акторов цифросетевого пространства. Тем не менее последнее пока не сформировало ясные контуры, по которым можно было бы судить о возникновении нового качества политических отношений в виртуальном поле. Аналитика свидетельствует, что сам по себе перенос политического активизма в цифровое пространство не приводит автоматически к увеличению демократических акторов. Цифросетевой активизм отчасти лишь гарантирует развитие сетевой, прямой демократии. Поэтому формулировать то, каким будет новый политический дискурс в цифросетевом пространстве, можно весьма условно. Это зависит от политического редукционизма, т.е. экстраполяции новых цифровых технологий на политическую сферу.
Кроме того, углубленный когнитивизм в понимании специфики политического, его опредмечивания влияет на смыслосодержащий контент сетевых политических отношений. Из этого будет произрастать политическое будущее РФ.
Цифросетевизация – вопрос времени. Основная проблема в меняющимся дискурсе связана с ролью государства: будет ли оно способно сохранять устойчивое положение в политической системе либо же позволит социуму в полной мере опираться и на новых, неинституциональных акторов, политический активизм которых складывается в условиях трансформирующейся информационно-коммуникационной среды.
Список литературы О специфике политического в российском цифросетевом пространстве
- Гвоздиков Д. 2019. Развитие систем действия коммуникативных сред в процессах цифровизации. - Социальная стратификация в цифровую эпоху: к 130-летию со дня рождения Питирима Сорокина: сборник материалов XIII Международной научной конференции "Сорокинские чтения - 2019. М.: МАКС Пресс. 2019
- Иоселиани А. 2019. Социокультурная рефлексия технологизации и цифровизации общественной жизни. - Социальная стратификация в цифровую эпоху: к 130-летию со дня рождения Питирима Сорокина: сборник материалов XIII Международной научной конференции "Сорокинские чтения - 2019. М.: МАКС Пресс. 2019
- Кашпар В. 2019. Особенности дигитализации средств массовой коммуникации в цифровом обществе. - Социальная стратификация в цифровую эпоху: к 130-летию со дня рождения Питирима Сорокина: сборник материалов XIII Международной научной конференции "Сорокинские чтения - 2019. М.: МАКС Пресс. 2019
- Михайленок О., Щенина О. 2018. Антропологическое измерение политики: новый "сетевой человек". - Вестник МГОУ: электронный журнал. № 2. С. 155-168
- Тимофеева Л. 2014. Конфликтогенность взаимоотношений власти и оппозиции в условиях политической модернизации: риски и возможности их гармонизации. - Конфликтология. № 4. С. 82-93
- Яницкий О.Н. 2013. Протестное движение 2011-2012: некоторые итоги. - Власть. № 2. С. 14-19