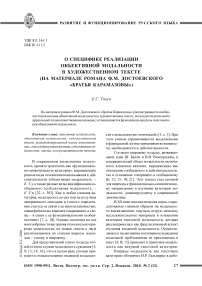О специфике реализации объективной модальности в художественном тексте (на материале романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»)
Автор: Тикун Е.С.
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Развитие и функционирование русского языка
Статья в выпуске: 2 (12), 2010 года.
Бесплатный доступ
На материале романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» рассматриваются особен- ности реализации объективной модальности в художественном тексте; исследуются реальный и ирреальный планы повествования в романе; устанавливается функциональная роль экспликато- ров объективной модальности.
Текстовая модальность, объективная модальность, художественный текст, реальный/ирреальный планы повествова- ния, смыслообразующая функция, субъективная модальность, оценка, коммуникативность текста
Короткий адрес: https://sciup.org/14969486
IDR: 14969486 | УДК: 811.161.1
Текст научной статьи О специфике реализации объективной модальности в художественном тексте (на материале романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»)
В современном языкознании модальность принято трактовать как «функционально-семантическую категорию, выражающую разные виды отношения высказывания к действительности (объективная модальность. – Е. Т. ), а также разные виды квалификации сообщаемого (субъективная модальность. – Е. Т. )» [22, с. 303]. Как и любая сложная категория, модальность до сих пор не получила завершенного описания и точного определения статуса «в связи с ее многоплановостью, специфичностью языкового выражения, а также – в связи с ее функциональными особенностями» [7, с. 18]. Однако, несмотря на все многообразие точек зрения относительно природы модальности, их можно свести к двум различающимся по степени широты подходам – узкому и широкому.
Для представителей узкого подхода точкой отсчета служит модальность суждения [3; 9; 13; 14; 16], «что в целом ряде случаев приводит к отождествлению языковой модально- сти с модальностью логической» [5, с. 5]. При этом ученые ограничиваются выделяемыми в формальной логике значениями возможности, необходимости и действительности.
Согласно широкому подходу, развивающему идеи Ш. Балли и В.В. Виноградова, в содержательный объем модальности включаются языковые явления, выражающие как отношение сообщаемого к действительности, так и отношение говорящего к сообщаемому [6; 12; 15; 18; 21]. Этот подход стал основой для перехода к функционально-семантическому направлению в изучении категории модальности, доминирующему в современной лингвистике.
В XX веке лингвистическая наука, сосредоточенная главным образом на модальности высказывания, ощутила острую нехватку исследовательского материала в отношении категории текстовой модальности, которая рассматривалась как факультативный аспект изучения языковой модальности. Осуществляемое в языкознании постепенное выведение модальной проблематики из предложения в текст [4; 8; 15] приводит к трактовке модальности как ведущей текстовой категории.
Впервые модальность как текстовую категорию обозначил И.Р. Гальперин в рабо- те «Текст как объект лингвистического исследования». Не вводя дефиницию, он представил сущность модальности текста через ряд признаков: объективная по природе, в тексте носит не грамматический, а функциональносемантический характер, проявляясь неравномерно в разных фрагментах текста и выражаясь через характеристику героев, распределение отрезков текста, сентенции и умозаключения автора, актуализацию отдельных частей текста и через ряд других средств [8].
Несмотря на то, что в основе модальности высказывания и модальности текста лежат одни и те же понятия действительного, возможного и необходимого и их оценки говорящим [19, с. 109], между ними нет абсолютного тождества. Это в полной мере можно отнести к проблеме соотношения объективной и субъективной модальности и к особенностям функционирования данных содержательных блоков. В статье мы рассмотрим специфику реализации объективной модальности в романе Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы».
Прежде всего следует отметить условный характер отношения содержания текста к действительности в плане реальности/ирре-альности, так как художественный текст, являясь плодом воображения писателя, всегда отражает только вымышленную реальность. Как указывает Л.Г. Бабенко, литературное произведение – это «уникальный вариант интерпретации действительности с точки зрения автора текста, представляющий собой индивидуально-авторскую картину мира» [1, с. 134]. Следовательно, нужно говорить о соответствии или несоответствии текста изображенной, виртуальной реальности, а не нашим представлениям о мире.
Основу романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» составляет реальная история убийства Федора Павловича Карамазова лакеем Смердяковым. Однако в произведении это не дается как известный факт. Автор развертывает перед читателем сценарии возможного развития событий, которые образуют ирреальный план повествования. Его показателями выступают модальные значения возможности, необходимости и желательности, а также глаголы в сослагательном наклонении. Ср.: – Ах, Господи, он (Митя Карамазов. – Е. Т.) убить кого хочет! – всплеснула рука- ми Феня (с. 448) 1; – Но кто же убил отца, кто же убил? Кто же мог убить, если не я? Чудо, нелепость, невозможность!.. (с. 525–526); – Да, к несчастью, я хотел убить его (Федора Павловича. – Е. Т.), много раз хотел… к несчастию, к несчастию! (с. 528); – Неужели вы думаете, что я стал бы скрывать от вас, если бы в самом деле убил отца, вилять, лгать и прятаться? (с. 557); – Принимаю казнь не за то, что убил его, а за то, что хотел убить и, может быть, в самом деле убил бы… (с. 583); – Хочет он (Ракитин. – Е. Т.) обо мне, об моем деле статью написать, и тем в литературе свою роль начать, с тем и ходит, сам объяснял. С направлением что-то хочет: «дескать, нельзя было ему не убить, заеден средой», и проч., объяснял мне (с. 671); Нет, именно так должен был поступить убийца исступленный, уже плохо рассуждающий, убийца не вор и никогда ничего до тех пор не укравший, да и теперь-то вырвавший из-под постели деньги не как вор укравший, а как свою же вещь у вора укравшего унесший – ибо таковы именно были идеи Дмитрия Карамазова об этих трех тысячах, дошедшие в нем до мании (с. 819); – Если б ты убил отца, я бы сожалел, что ты отвергаешь свой крест (с. 873). Из данных примеров видно, что в тексте наряду с реальным сюжетом конструируется возможный, или предполагаемый, согласно которому самым очевидным убийцей оказывается Дмитрий Карамазов.
Одновременно автор предлагает и альтернативы развития событий, как, например, существование сразу двух преступников. Ср.: Любопытно, из каких мотивов оба сообщника могли бы выдумать именно такой сумасшедший план? (с. 815); Если б он (Смердяков. – Е. Т. ) был действительно в сообщничестве и виновен , сообщил ли бы он так легко об этом следствию, то есть что это все он сам сообщил подсудимому? (с. 816–817).
Таким образом, объективную модальность в романе составляют, с одной стороны, значения, связанные с отражением реальной ситуации, и тогда единственным действительным преступником является Смердяков, с другой стороны, значения, формирующие ирреальный план повествования, в таком случае убийцей признается Дмитрий Карамазов.
Реализуясь в художественном тексте, объективная модальность приобретает подвижный, динамичный характер. Это проявляется как в дифференциации способов выражения модальности, так и в варьировании модальных значений. Например, воля и желание Ивана Федоровича начать новую жизнь сменяется констатацией собственного бессилия. Ср.: В семь часов вечера Иван Федорович вошел в вагон и полетел в Москву. «Прочь все прежнее, кончено с прежним миром навеки, и чтобы не было из него ни вести, ни отзыва; в новый мир, в новые места, и без оглядки!» Но вместо отзыва восторга на душу его сошел вдруг такой мрак, а сердце заныла такая скорбь, какой никогда он не ощущал прежде во всю свою жизнь» (с. 324). Побудительная модальность трансформируется в модальность действительности, благодаря чему достигается эффект внезапности. Кроме того, данный контекст усиливается наречием вдруг . Подобная динамика модальной семантики выполняет смыслообразующую роль: «Механизм преобразований (смысла. – Е. Т. ) заключается в подведении вновь образованного (при создании или восприятии компонента смысла) под одно из значений актуальной на данный момент модальности» [11, с. 56].
В одном текстовом отрезке могут совмещаться разные виды модальности, выражающие весь комплекс модальных значений. Ср.: – Можно ли жить бунтом, а я хочу жить. Скажи мне сам прямо, я зову тебя – отвечай: представь, что это ты сам возводишь здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им наконец мир и покой, но для этого необходимо и неминуемо предстояло бы замучить всего лишь одно только крохотное созданьице, вот того самого ребеночка, бившего себя кула-чонком в грудь, и на неотомщенных слезках его основать это здание, согласился ли бы ты быть архитектором на этих условиях, скажи и не лги! (с. 283). В данном отрезке реальной модальностью характеризуется лишь одно высказывание, заключающее в себе значение желательности, конкретно жажду жизни Ивана Карамазова. В дальнейшем контексте раскрывается ирреальность осуществления этого желания в силу невозможности принятия Иваном способов его достижения. Семантика ирреальности, выражаемая с помощью глаголов повелительного и сослагательного наклонения, оказывается доминирующей, что приводит к образованию новых смыслов. При этом высказывание в императиве «подразумевает возможность обратной связи между высказыванием субъекта и реакцией собеседника, на которого направлено высказывание» [17, с. 28]. Таким образом, через призыв Ивана к Алеше представить себя на месте всесильного Бога автор осуществляет акт коммуникации с читателем.
К специфическим чертам функционирования объективной модальности в художественном тексте следует отнести также ее тесную связь с субъективной модальностью. Это обусловлено «абсолютной антропоцентрич-ностью текста не только по форме, но и по содержанию» [20, с. 12]. Так, говоря о возможном оправдании Мити в суде, предполагая благоприятный исход развития событий, автор отрицательно оценивает поступок Катерины Ивановны. Ср.: Увы ! За ним (письмом. – Е. Т. ) именно признали эту математичность, и, не будь этого письма, может быть и не погиб бы Митя, или по крайней мере не погиб бы так ужасно! (с. 787). Авторское неодобрение и сожаление выражается с помощью междометия увы , а также глагола в сослагательном наклонении не погиб бы . Следовательно, экспликаторы объективной модальности в художественном произведении могут приобретать субъективно-модальные значения.
Итак, проведенный анализ показывает, что объективная модальность в художественном тексте, характеризуясь условным характером отношения содержания текста к действительности в плане реальности/ирреально-сти, выполняет смыслообразующую функцию, способствует реализации коммуникативности текста, а также выражает авторское отношение к изображаемому. Специфический характер объективной модальности текста обусловливается такими ее признаками, как динамичность, многокомпонентность и тесная связь с категорией субъективной модальности.
Список литературы О специфике реализации объективной модальности в художественном тексте (на материале романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»)
- Здесь и далее цитаты даются по: [10]. В круглых скобках указываются номера страниц.
- Бабенко, Л. Г. Оценочный фактор в формировании модального пространства текста/Л. Г. Бабенко//Оценки и ценности в научном познании: сб. науч. тр./ред. С. С. Ваулина, В. И. Грешных. -Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2009. -Ч. 2. -С. 133-142.
- Балли, Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка/Ш. Балли. -М.: Изд-во иностр. лит., 1955. -416 с.
- Бондаренко, В. Н. Виды модальных значений и их выражение в языке/В. Н. Бондаренко//Филологические науки. -1979. -№ 2. -С. 54-61.
- Валгина, Н. С. Теория текста: учеб. пособие/Н. С. Валгина. -М.: Логос, 2004. -280 с.
- Ваулина, С. С. Языковая модальность как функционально-семантическая категория (диахронический аспект): учеб. пособие/С. С. Ваулина. -Калининград: Изд-во КГУ, 1993. -70 с.
- Виноградов, В. В. Русский язык (Грамматическое учение о слове): учеб. пособие для вузов по спец. «Рус. яз. и лит.»/В. В. Виноградов. -3-е изд., испр. -М.: Высш. шк., 1986. -639 с.
- Волкова, Н. А. Текстовая модальность в аспекте учения о первичности-вторичности текста: на материале цикла рассказов В. М. Шукшина «Из детских лет Ивана Попова»: дис.... канд. филол. наук: 10.02.01/Волкова Наталья Анатольев-на. -Горно-Алтайск, 2007. -183 с.
- Гальперин, И. Р. Текст как объект лингвистического исследования/И. Р. Гальперин. -М.: Наука, 1981. -139 с.
- Дешериева, Т. И. О соотношении модальности и предикативности/Т. И. Дешериева//Вопросы языкознания. -1987. -№ 1. -С. 34-45.
- Достоевский, Ф. М. Братья Карамазовы: роман/Ф. М. Достоевский. -2-е изд., стереотип. -М.: Дрофа, 2003. -912 с.
- Дымарский, М. Я. Проблемы текстообразования и художественный текст (На материале русской прозы XIX-XX вв.)/М. Я. Дымарский. -СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999. -328 с.
- Золотова, Г. А. Очерк функционального синтаксиса русского языка/Г. А. Золотова. -М.: Наука, 1973. -351 с.
- Ивин, А. А. Логика: учеб. для гуманит. фак./А. А. Ивин. -М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. -317 с.
- Колшанский, Г. В. К вопросу о содержании языковой категории модальности/Г. В. Кол-шанский//Вопросы языкознания. -1961. -№ 1. -С. 94-98.
- Мещеряков, В. Н. К вопросу о модальности текста/В. Н. Мещеряков//Филологические науки. -2001. -№ 4. -С. 99-105.
- Панфилов, В. З. Взаимоотношение языка и мышления/В. З. Панфилов. -М.: Наука, 1971. -232 с.
- Руднев, В. П. Морфология реальности: Исследование по «философии текста»/В. П. Руднев. -М.: Рус. феноменол. о-во, 1996. -207 с.
- Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность/А. В. Бондарко, Е. И. Беляева, Л. А. Бирюлин [и др.]; отв. ред. А. В. Бондар-ко. -Л.: Наука, 1990. -262 с.
- Тураева, З. Я. Лингвистика текста и категория модальности/З. Я. Тураева//Вопросы языкознания. -1994. -№ 3. -С. 105-114.
- Чернухина, И. Я. Элементы организации прозаического текста/И. Я. Чернухина. -Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1984. -115 с.
- Шведова, Н. Ю. Очерки по синтаксису русской разговорной речи/Н. Ю. Шведова. -М.: Изд-во АН СССР, 1960. -377 с.
- Языкознание: большой энцикл. слов./ред. В. Н. Ярцева [и др.]. -2-е изд., репринт. -М.: Большая Рос. энцикл. -685 с.