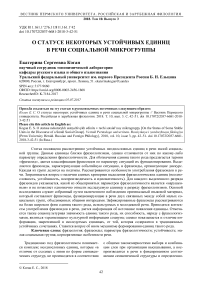О статусе некоторых устойчивых единиц в речи социальной микрогруппы
Автор: Коган Екатерина Сергеевна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Язык, культура, общество
Статья в выпуске: 3 т.10, 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению устойчивых неоднословных единиц в речи малой социальной группы. Данные единицы близки фразеологизмам, однако отличаются от них по какому-либо параметру определения фразеологичности. Для обозначения единиц такого рода предлагается термин «фразеоид», дается классификация фразеоидов по параметру ситуаций их функционирования. Выделяются фразеоиды, характеризующие событийную ситуацию, и фразеоиды, организующие дискурс. Каждая из групп делится на подтипы. Рассматриваются особенности употребления фразеоидов в речи. Затрагивается вопрос о наличии единых критериев выделения фразеологических единиц (неодно-словность, устойчивость, воспроизводимость и идиоматичность). Для каждого выделенного разряда фразеоидов указывается, какой из общепринятых параметров фразеологичности является «нарушенным» и не позволяет однозначно отнести исследуемую единицу к разряду фразеологизмов. Основой исследования служит собранный путем включенного наблюдения оригинальный языковой материал, который составляют фразеоиды, функционирующие в речи двух связанных между собой малых социальных групп, объединенных общими интересами. Зафиксированные фразеоиды рассматриваются на более широком фоне единиц такого рода, используемых в молодежной речи. Приводятся контексты употребления фразеоидов в речи, дается информация об источнике появления единицы. Отмечается также социокультурная значимость единиц такого рода, их способность, наряду с фразеологизмами, являться «хранилищем» культурной информации социума; однако показывается и отличие информации, закрепленной в исследуемых единицах, от той, которая содержится в традиционных устойчивых сочетаниях. Ставится вопрос об ином механизме формирования единиц такого рода.
Фразеология, фразеоиды, параметры фразеологичности, устойчивость, малая социальная группа, корпоративные особенности речи
Короткий адрес: https://sciup.org/147226919
IDR: 147226919 | УДК: 811.161.1''276.11:811.161.1''42 | DOI: 10.17072/2037-6681-2018-3-42-51
Текст научной статьи О статусе некоторых устойчивых единиц в речи социальной микрогруппы
го лексико-грамматического состава» [ЛЭС: 559]. В качестве основных свойств фразеологизма выделяют, как правило, неоднословность, устойчивость, воспроизводимость и идиоматичность (см.: [ЛЭС 559;Мокиенко 1980: 4; Телия 1997: 605]).
Л. И. Ройзензон указывает, что «под воспроизводимостью ФЕ следует понимать такое ее свойство, которое позволяет говорящему каждый раз, когда ему нужно, эту единицу использовать в речевом акте, извлекая ее из памяти как готовую, а не создавать, конструировать ее в процессе речи» [Ройзензон 1972: 19].
Термином «устойчивость» В. М. Мокиенко предлагает обозначать «отн о с ительн о (выделено мной. – Е. К .) стабильное употребление сочетания слов» [Мокиенко 1980: 7], поскольку вариативность является одной из характерных черт любой части словарного запаса, и фразеологизмов в том числе. «Устойчивость – это не абсолютная неизменяемость фразеологизма, а ограничение разнообразия трансформаций, допустимых в соответствии с множественностью регулярных способов выражения одного и того же смысла» [ЛЭС: 559].
О. С. Ахманова, указывая на то, что основным параметром для отнесения словосочетания к классу фразеологизмов является его идиоматичность, в то же время замечает, что данный термин представляется ей слишком общим и неопределенным: «Как известно, термины “идиоматичный”, “идиоматичность” нередко употребляются без необходимой научной точности вообще для обозначения “неравенства значения целого сумме значения частей”, почему идиоматичными могут быть и сложные слова, и фразеологические единицы, и аналитические формы» [Ахманова 1957: 168]. Критерием для отграничения фразеологизмов от свободных словосочетаний она предлагает считать характер их соотнесенности с действительностью, цельность номинации, не присущую словосочетанию. Стремление к уточнению понятия «идиоматичность» демонстрируют и А. Н. Баранов, и Д. О. Добровольский, предлагая выделять при этом три основных ее типа: переинтерпретация, непрозрачность и усложнение способа указания на денотат. Под переинтерпретацией понимается восприятие выражения в переносном значении, причем данное переносное значение связано с прямым неким отношением. Непрозрачность препятствует «вычислению» значения вследствие переинтерпретации, которую невозможно восстановить на синхронном уровне, или из-за отсутствия одного или нескольких компонентов значения на современном этапе существования языка. Усложнение способа указания на денотат опре- деляется наличием в языке более простого и стандартного наименования той же сущности. Данные факторы могут выступать в комплексе (см.: [Баранов, Добровольский 2008: 30–33]).
Данные параметры, отделяющие ФЕ от свободных словосочетаний, не принимаются однозначно, подвергаются обсуждению и критике. Однако они позволяют разграничить ФЕ и лексему, ФЕ и словосочетание. Учет данных параметров позволяет также определить и процесс фразеологизации. Фразеообразование происходит в языке постоянно. Некоторые единицы не проходят обкатку узусом и пропадают, некоторые же остаются в употреблении. Своеобразной творческой площадкой, где формируются и закрепляются хотя бы на некоторое время словосочетания, тяготеющие к фразеологичности, является речевой дискурс малых социальных групп (далее – МСГ). МСГ могут быть организованы на базе общности выполняемого дела или хобби, однако обычно связи между участниками группы перерастают в дружеские, что приводит к общению на любые темы, не ограниченному сферой деятельности, что обеспечивает разнообразие идеографических областей, в которых образуются устойчивые единицы. На важность данной языковой среды как источника пополнения фразеологического запаса языка указывают В. Харри (см.: [Харри 2009: 9], В. М. Мокиенко и Т. Г. Никитина (см.: [Мокиенко, Никитина 1999]).
Помимо регулярно воспроизводимых словосочетаний, которые могут быть с уверенностью отнесены к разряду фразеологизмов, в речи МСГ фиксируются также устойчивые единицы «маргинального» статуса. Их отличают условия функционирования либо неполная удовлетворительность параметрам неоднословности, устойчивости и идиоматичности. Такие единицы предлагается называть фразеоидами. Активно используясь в речи, они, тем не менее, находятся на периферии фразеологического поля, отличаясь от собственно ФЕ по структурным или семантическим параметрам. В. Н. Телия, говоря о фразеологии языка как области, имеющей ядер-но-периферийную структуру, указывает на необходимость изучения периферийных зон: «Без исследования взаимодействия и взаимопроникновения различных страт корпуса фразеологии невозможно создать сколько-нибудь полное впечатление о структурно-семантическом разнообразии фразеологизмов» [Телия 1996: 81–82]. На некоторые разряды таких единиц обращают внимание А. Н. Баранов и Д. О. Добровольский, используя для их обозначения термин речевые формулы: «речевые формулы – это идиомы разных структурных типов (преимущественно законченные высказывания) с фиксированной ил- локутивной силой или определяющие иллокутивные характеристики речевого высказывания» [Баранов, Добровольский 2008: 81].
Материалом для исследования послужили наблюдения за устойчивыми сочетаниями, бытующими в речи двух таких МСГ. Первая из них объединяет людей в возрасте от 24 до 50 лет, занимающихся фехтованием и трюковой работой. Группа существует около 20 лет, и за это время состав ее участников полностью сменился. Представители разных поколений часто даже не знают о существовании друг друга. Вторая группа, связанная с первой через нескольких человек, входящих в оба коллектива, представляет собой студию исторического танца. Она существует около пяти лет, возраст участников 16-35 лет, состав участников меняется, но постоянный «костяк» сохраняется.
Учитывались как единицы, являющиеся специфичными для данных групп, так и устойчивые высказывания, имеющие широкое хождение в молодежной среде, но употребляемые в данных группах. Для анализа были выбраны 30 фразеои-дов из около 100 устойчивых единиц, используемых группой.
Фразеоиды, используемые группами, можно разделить на две крупные группы по параметру ситуаций их функционирования: фразеоиды, характеризующие событийную ситуацию, и фра-зеоиды, организующие дискурс. Оба этих типа вместе с их подтипами представлены ниже.
-
1. Фразеоиды, характеризующие событийную ситуацию
Единицы, относящиеся к этой группе, удовлетворяют параметру идиоматичности, однако отличаются от собственно ФЕ по структурным свойствам и могут быть разделены на подгруппы в зависимости от «ведущего» устойчивого параметра на синтаксические (фразеоиды, представляющие собой синтаксическую «колодку» с вариативным лексическим компонентом), интонационные (фразеоиды, для которых значимым параметром является необходимо воспроизводимая интонация) и фразы-штампы с высокой степенью повторяемости, обозначающие эмоциональные реакции.
-
1.1. Синтаксические фразеоиды. Это конструкции, в которых ряд компонентов являются устойчивыми, регулярно воспроизводимыми, а другие заменяются, своеобразные конструкции-колодки, в которые подставляется значимый элемент. В русскоязычной традиции конструкции такого рода рассматриваются при предельно широком понимании фразеологичности как устойчивости сочетания единиц, не обусловленной общими правилами. Так, например, Н. Янко-
Триницкая обозначает подобные образования как «фразеологические единицы <…> на уровне предикативной единицы: (Если мы опоздаем, то) плакали наши денежки » [Янко-Триницкая 1969: 433]. Впрочем, выделение данного высказывания как устойчивой синтаксической конструкции довольно спорно, поскольку легко реализуются в речи контексты типа ну все, плакали наши денежки без начальной повторяющейся формулы причинно-следственной связи. А. Н. Баранов и Д. О. Добровольский называют конструкции такого рода синтаксическими фразеологизмами (см.: [Баранов, Добровольский 2008: 9], примеры таких конструкций см. ниже), а В. Ю. Меликян предлагает термин «фразеосинтаксическая схе-ма»1, хотя рассматривает модели, в которых устойчивый компонент представлен по преимуществу служебными частями речи. И. И. Чернышева, говоря о единицах, чье значение возникает в результате типовой структуры, обозначает конструкты подобного рода как моделированные образования, возникающие в результате типовых структур с общим или несколькими переменными лексическими компонентами, чья семантика является типовой и моделированной (см.: [Чернышева 1970]). В англоязычной же традиции в некотором смысле схожее явление, при котором часть компонентов фразы являются устойчивыми, а один элемент вариативен, Р. Мун предлагает называть «лексико-грамматические фреймы» [Gill 2008: 97-98], относя к ним сочетания типа beyond beliefe , beyond question , beyond doubt и т. п. Отметим, что существование подобных конструкций в английском языке обусловлено более аналитическим, по сравнению с русским, строем языка.
Обычно в литературе фиксировалось несколько основных синтаксических схем: Х он и в Африке Х (напр., мед - он и в Африке мед , книга -она и в Африке книга ), всем Х-ам Х (напр., всем обедам обед ) и Х как Х (напр., урок как урок , чай как чай ) (см.: [Баранов, Добровольский 2008: 15– 16]), сначала делай X , а потом Y (см.: [Шмелев 1977: 327-330]). Сейчас же можно наблюдать существенное увеличение количества таких конструкций. Так, к числу широкоупотребительных в молодежном дискурсе фразеоидов есть основание отнести конструкцию < это > Х, Карл 2. Эта синтаксическая схема используется в функции интенсификатора, привлекающего внимание к сообщаемому, часто характеризующего его как очевидное и придающего усиленную экспрессивность. Заменяемым компонентом служит ключевое слово предыдущей реплики. В качестве примера можно привести рассказ одной из участниц танцевальной студии: «Согласуем с заказчиком статью. А надо сказать, что заказчик
- это компания, производящая насосы, и у них должен быть заголовок “Лидеры отечественного насосостроения”. И вот журнал должен уйти в печать, и тут главред замечает, что заголовок у них - “Лидеры отечественного настроения”! Отечественного настроения, Карл! В таком виде согласовали». Фразеоид приобрел такую популярность, что используется в названии сети предприятий общественного питания: «Это бургер, Карл»3.
Также весьма распространенными в речи молодежи в целом и в речи участников исследуемых малых групп являются следующие синтаксические фразеоиды:
- в любой непонятной ситуации + императив глагола. Конструкция, как правило, используется для обозначения поведения, не вполне адекватного ситуации. Напр., «У меня кот, когда паникует, заваливается на бок и орет. - Ну да, конечно, в любой непонятной ситуации падай и ори!», «Мне нужно кучу работы переделать, а я сольник (сольный танцевальный номер) придумываю. -Ну, все правильно: в любой непонятной ситуации танцуй»4.
- это Х здорового человека, а это Х курильщика 5 . Конструкция используется для характеристики чего-л. как ненормального. (Напр., танцевальная группа смотрит фотографии с выступления и комментирует одну, на которой трое участников группы - члены одной семьи): «О да, тут должна быть подпись “Это семья здорового человека, а это семья курильщика”»; (при обсуждении планов на выходные, в которые входит проведение мероприятия и репетиции) «Мы сдохнем... - Ага, после таких выходных еще одни выходные нужны. - Все нормально, это выходные здорового человека, а это выходные курильщика». В широком употреблении фразеоид обладает, как правило, негативным оттенком, в наблюдаемых же группах, напротив, позитивным, что обусловлено естественным для корпоративной культуры противопоставлением себя обществу в целом, которое приводит к тому, что отличие от нормы (в рамках разумного) оценивается положительно.
- больше Х богу Х 6. Выражает экспрессивное отношение к увеличению количества чего-л. Напр., «Почему здесь “Космос” [кулинария], а за углом тоже “Космос”? - Ну так... Потому что больше “Космоса” богу “Космоса”»; «Что на балу танцевать будем? - Гальярды! Больше гальярд богу гальярд!».
- [делать что-либо] - <просто,> как ехать на <горящем> велосипеде - ты горишь, он горит, все горит, <и вы в аду>7 - о сложности какого-либо процесса, ситуации. «У меня на работе аврал, блин, просто, как ездить на горящем вело- сипеде - ты горишь, он горит, все горит»; «Выходить из роли просто, это как ездить на велосипеде - просто ты горишь, он горит, все горит, и вы в аду». Характерно, что конструкция не тяготеет к сокращению. Возможно, причиной этого является стремление сохранить ее экспрессивность и узнаваемость конструкции.
Конструкцией корпоративного использования, выделяющей танцевальную группу, является ничего не Х только Х - Х («Рука не сопля... ничего не сопля, только сопля - сопля»; «Не делай так, это только Таня может себе позволить, у нее связки мягкие. А ты не Таня. Ничего не Таня, только Таня - Таня»), служащая для подчеркивания принципиальной разницы между явлениями.
В последнее время в группе наблюдается тенденция к образованию синтаксического фразеои-да из собственно фразеологизма. Исходным «материалом» послужила фраза нет земли, нет земли… хопа – полный рот земли! , используемая участниками в значении ‘о большом количестве чего-л’. Источником является фраза одного из участников группы старшего поколения, инструктора по парашютному спорту, произнесенная в рассказе о прыжках с парашютом. Напр.: «У меня что-то с работой нет земли, нет земли -хопа, полный рот земли». Фраза постепенно и устойчиво «мутирует» в схему нет Х нет Х – хопа, полный рот Х , сохраняя значение (напр., «Вот так, стоило прийти на занятия - и нет мюзикла, нет мюзикла - хопа, полный рот мюзикла!» - о ситуации, когда только пришедший в группу человек оказался тут же включенным в процесс репетиции танцевальных номеров любительского мюзикла).
Семантика синтаксических фразеоидов по сравнению с обычными фразеологизмами, как правило, более размыта. В большинстве случаев она не может быть четко сформулирована и обозначает, скорее, эмоциональную характеристику ситуации, нежели логическое знание. Можно сказать, что синтаксические фразеоиды представляют собой не номинативные единицы (поскольку значимый компонент постоянно меняется), а своеобразные междометия, передающие устойчивое эмоционально-экспрессивное отношение говорящего к ситуации.
-
1.2. Интонационные фразеоиды. Это словосочетания, которые, будучи произнесенными с определенной обязательной интонацией, получают измененный или новый смысл. В наблюдаемых группах используется несколько таких фразеоидов, которые имеют различную степень идиоматичности. На начальной стадии значение фразеоида не отличается от прямого значения фразы, интонация же служит только для создания отсылки к прецедентному тексту, вызываю-
- щей удовольствие от распознавания. К таковым относятся: Поднимайтесь, восстаньте! (отсылка к фильму «Реальные упыри» Т. Вайтити и Дж. Клеймента, значение прямое - требование проснуться или чуть шире - требование встать, если адресаты сидели или лежали: «Поднимайтесь, восстаньте! Пора разминку начинать»); Ну, я не знаю (отсылка к фильму «Опасные связи» С. Фрирза, интонация, отсылая к первоисточнику, придает оттенок на грани пристойности: «У нас проблемы с костюмами на юношей. Что будем делать? - Ну, я не знаю... - Что, предлагаешь совсем без костюмов? Богатая идея!»). Со временем интонационные фразеоиды могут расширить свое значение по сравнению с изначальным. Так, например, выражение А нанайки-то и нееет !9 изначально закрепилось в узусе группы для обозначения отсутствия кого-л. («Мы же договаривались встретиться до тренировки, я пришла - а нанайки то и нееет!») и затем употребление распространилось и на неодушевленные объекты («Чаю бы заварить, а нанайки-то и нееет! Заварка кончилась»).
Значение интонационных фразеоидов определяется существенно проще, чем синтаксических, и в целом понятно по контексту. Таким образом, с одной стороны, интонация является факультативным элементом фразеоида, но, с другой стороны, именно считываемая, узнаваемая интонация превращает словосочетание в цельную единицу, за которой стоит целая ситуация.
Фразеоиды-словосочетания соответствуют параметрам неоднословности и устойчивости, хотя в некоторых случаях расхождение прямого и переносного значений слишком мало (напр., Поднимайтесь, восстаньте! ), семантическое наращение касается лишь компрессии исходной ситуации / текста в рамки словосочетания.
В. Л. Архангельский, указывая на важность определенной интонации для фразеологизмов, отмечает, что интонация «может служить средством различения омонимов, а именно: разграничивать устойчивые фразы определенного типа и регулярные предложения с лексико-грамматическим составом, тождественные составу устойчивой фразы, и создавать интонационные омофоны» [Архангельский 1964: 250].
-
1.3. Фразеоиды-устойчивые реакции. К ним относятся регулярно воспроизводимые фразы, служащие для обозначения эмоций либо действий: пойду утоплюсь в школьном колодце (о чувстве стыда); мы не переживаем за < наших > туристов в Конго 10 (призыв к спокойствию). Такие единицы отвечают всем параметрам фразеологичности, однако отличаются функционированием. Они не встроены в структуру предложения, а представляют собой це-
- лостное высказывание подобно паремиям; однако от паремий их отличает отсутствие дидактич-ности и обобщающего характера значения.
-
2. Фразеоиды, организующие дискурс
-
2.1. Фразеоиды с ненулевым функционалом
- Фразеоиды запроса информации. В качестве устойчивых вопросов используются две фразы: как ваше ничего ? и рассказывайте, что у вас плохого (данное выражение является цитатой из мультфильма «Тайна третьей планеты», первая реплика имеет широкое распространение, происхождение непонятно). Данные фразеоиды представляют собой частный случай формул вопроса в классификации А. Н. Баранова и Д. О. Добровольского. Как отмечают исследователи, «большинство из них являются риторическими вопросами. По своей семантике они представляют собой оценку тех или иных аспектов ситуации общения» [Баранов, Добровольский 2008: 93]. Однако фразеоиды-вопросы, функционирующие в МСГ, отличаются отсутствием риторичности (поскольку все же требуют ответа) и сниженной идиоматичностью (поскольку выступают в прямой функции вопроса, а не характеристики ситуации или человека, ср. «какая муха тебя укусила?» или «а я что - рыжий?» [там же]). Первый из них ( как ваше ничего ) можно классифицировать как пограничный случай между формулой вопроса и грамматическим фразеологизмом (ср.: [там же: 74-78]).
- Фразеоиды ввода информации. Выражение ты ж понимаешь … вводит, как правило, известную или легко выводимую логически информацию. Я тут такую штуку удумал ... - фраза, вводящая собственные мысли говорящего (в отличие от цитирования, а также воспринимаемые им как значимый результат интеллектуального труда). Выражение я тебе умную вещь скажу, ты только не обижайся … маркирует реакцию на не вполне адекватное в информационном плане высказывание собеседника. Смотрите: вот бежит олень … (из мультфильма «Маугли») используется для привлечения внимания при объяснении. Эти фразеоиды, однако, обладают весьма низкой идиоматичностью. Так, например,
-
2.2. Фразеоиды с нулевым функционалом
– Устойчивые ответы. «Катализатором» для использования подобных фразеоидов служит определенный вопрос. Они практически не несут информации, служа, в первую очередь, эмоционально-экспрессивной выразительности: <Есть планы на… / Что ты делаешь…> – Пробую завоевать мир. <Что ты делаешь в воскресенье ? > – Воскресаю. <Это интересно / весело?> – Приезжайте, обхохочетесь 12, <А где N?> – Гуляет где-то. Страаааннно… 13 либо А с чем пирожки? (реакция на отсутствие кого-либо). При этом могут возникать ситуации, когда первоисточник знают несколько участников группы, остальные же пользуются фразой, не соотнося ее с прецедентным текстом. Так, например, источником второго фразеоида является диалог студентов, работающих в гончарной мастерской УрГАХА, в котором последовательность двух не связанных друг с другом вопросов породила возможность двойственного, слегка абсурдного восприятия ситуации: «А где Валентин?» (вопрос о местонахождении подмастерья) – «А с чем пирожки?». В студию выражение попало благодаря знакомству одной из участниц группы с этими студентами.
Вторая группа представлена фразеоидами, использование которых обусловлено дискурсивными особенностями, связано с предшествующим или последующим высказыванием и характеризует ситуацию речи. При этом в данной группе можно выделять единицы с ненулевым функционалом (речевые формулы различного назначения) и единицы с нулевым функционалом (устойчивые продолжения фраз, являющиеся реакцией на определенное слово или высказывание и не дающие семантического «расширения»).
выражение ты ж понимаешь употребляется в прямом значении. Однако представляется возможным обратить в данном случае внимание на параметр воспроизводимости, который становится ключевым: из многих возможных вариантов фраз, которыми можно предварить ввод новой информации, наиболее часто выбирается именно этот.
– Фразеоиды завершения сообщения информации. К таковым относятся маркеры завершения высказывания – вот в таком вот примерно аксепте (источник – роман братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу») и где-то примерно вот так . Как правило, эти фразы произносятся после сообщения новой информации, являющейся описанием алгоритма действий или развития событий, либо сведениями, которые необходимы для выполнения данных действий11. Первая реплика обладает большей идиоматичностью в силу того, что является отсылкой к прецедентному тексту.
В дискурсивном употреблении, как правило, реплики такого рода не несут определенной (даже оценочно-экспрессивной) информации, что свойственно аналогичным конструкциям широкого употребления, значение которых можно описать хотя бы приблизительно (ср.: [Бондаренко 2013]). Устойчивый ответ произносится как реакция на заданный вопрос, после чего следует уже информативно наполненный ответ. Напр.:
«А где Осип?» – «А с чем пирожки? Опаздывает, предупредил, что на работе задержится»; «Что ты делаешь в воскресенье?» – «Воскресаю. Репетиция, потом к родителям собиралась зайти».
– Фразеоиды-«расширители». В эту группу входят устойчивые реакции на предыдущую реплику или слово, не несущие никакой информации, служащие только для выражения эмоций и создания эффекта узнавания. Мама! (в функции междометия) – Я не мама, я папа и то не твой ; Зашибись – И это не команда ; Больно – Зато бесплатно ; Логично – А мне кто? ; Готово! – Сломал 14. Первая из отмеченных реплик существует всегда в диалоге, остальные же могут как выполнять функцию ответной реплики диалога, так и являться продолжением фразы одного говорящего, например: «Ребята, поставьте кто-нибудь ноут? – Готово! Сломал!» (при этом не подразумевается порча оборудования, а только обозначается факт выполнения действия по установке, вторая же часть реплики следует по своеобразной языковой инерции); «Давай ты посмотришь женские рубашки, а ребята пусть сами смотрят себе костюмы, они в этом лучше понимают. – Логично. – А мне кто?» (ответная реплика «а мне кто» никак семантически не соотносится с предыдущими высказываниями, следуя так же по инерции). В отличие от единиц предыдущей группы, большая часть которых является цитатами из анекдотов, книг, фильмов, к данной группе относятся единицы, появление которых ситуативно15, а закрепление употребления вызвано создаваемым необычным завершением реплики смеховым эффектом, а также отсылкой к ситуации, «разгадывание» которой является показателем сопричастности группе.
Данная группа фразеоидов соотносится с формулами ответа по А. Н. Баранову и О. Д. Добровольскому: этот «особый тип речевых формул образуется идиомами, которые представляют собой второй из двух иллокутивно связанных речевых актов. Этот речевой акт иллокутивно вынуждается предшествующим» [Баранов, Добровольский 2008: 92]. Однако они не используются для указания на неуместность предшествующей реплики, что исследователи выделяют как основную функцию единиц такого типа.
Основным фактором, влияющим на закрепление и регулярное употребление словосочетания, становится, по-видимому, эффект обманутого ожидания, заведомое нарушение, при котором продолжение фразы является неожиданным для слушателя и вызывает смех. Фразеоиды данной группы отличает и маркированность интонации, также, по-видимому, влияющая на закрепление их в узусе группы. Важной является и отсылка к исходной ситуации либо прецедентному тексту, что создает общий фон группы, вызывает чувство общности – «мы “свои”, поскольку для нас понятны эти фразы, поскольку мы все их употребляем». Следует отметить также, что для фра-зеоидов данной группы характерна в большей степени опора на прецедентную ситуацию, произошедшую с кем-либо из участников группы, нежели на цитирование какого-либо текста-первоисточника.
Если выстраивать «шкалу фразеологизиро-ванности», можно заключить, что по параметру идиоматичности ближе всего к фразеологизмам являются синтаксические и интонационные фра-зеоиды, чуть дальше отстоят фразеоиды – устойчивые реакции и фразеоиды с нулевым функционалом, отличающиеся от фразеологизмов функционированием; еще дальше – фразеоиды-фор-мулы, обусловленные дискурсивно и обладающие низкой степенью идиоматичности. Параметр же воспроизводимости является значимым для всех типов единиц.
Между собственно фразеологизмами и фра-зеоидами возможно движение в ту или иную сторону. Возможно становление фразеологизма фразеоидом (напр., ничего не Х, только Х – Х из польской поговорки w sumie, nic nie zając, tylko zając to zając или нет Х, нет Х – хопа, полный рот Х из «корпоративного» фразеологизма нет земли, нет земли – хопа, полный рот земли ), также можно предположить, что через некоторое время какие-то из фразеоидов-устойчивых реакций или интонационных фразеоидов (утратив устойчивую интонацию и расширив значение) станут собственно ФЕ. Такое развитие можно предположить, например, для фразеоида а нанайки-то и нееет , который, утратив обязательность интонации, становится фразеологизмом с возможностью встраивания в структуру предложения типа *я пришла к нему в гости, а нанайки-то и нет: он в магазин ушел ; или для фразеоида-устойчивой реакции – А где N ? – А с чем пирожки ?, который при условии отсечения первой части может функционировать как фразеологизм, обозначающий отсутствие кого / чего-либо.
Для разных групп фразеоидов выделяются семантические доминанты, создающие идиоматичность: для синтаксических фразеоидов это экспрессивность, подчеркивание отношения к характеризуемой ситуации; для интонационных – отсылка к прецедентному тексту, расширяющая значение. Семантика же фразеоидов, характеризующих речевую ситуацию, определяется предыдущим или последующим высказыванием и обозначает, скорее, речевое намерение говорящего.
Процесс образования устойчивых единиц, присущих МСГ, по-видимому, является иным, нежели у сложившихся «традиционных» ФЕ языка, для которых основным генеративным механизмом являются метафора и метонимия (см.: [Ковалева 2004: 28–30]). Здесь следует говорить о закреплении в узусе лексической конструкции, а не образа-репрезентанта типовой ситуации. В случае же фразеоидов, организующих дискурс, можно говорить о фрейме речевой ситуации, структура и семантика которого обусловливают употребление фразеоида, а не об образном фрейме фразеологизма как структуре данных, пригодной для понимания более широкого класса явлений или процессов (см.: [Минский 1979: 8; Телия 1996: 60]).
Примечания
-
1 «Фразеосинтаксическая схема – это коммуникативная предикативная единица синтаксиса, представляющая собой определяемую и воспроизводимую несвободную синтаксическую схему, характеризующуюся наличием диктумной и мо-дусной пропозиции, выражающая членимое понятийное смысловое содержание (т. е. равно суждению), обладающая грамматической и лексической нечленимостью, ограниченной проницаемостью и распространяемостью, сочетающаяся с другими высказываниями в тексте по традиционным правилам и выполняющая в речи эстетическую функцию» [Меликян 2014: 161–162].
-
2 Источником является момент из фильма «Ходячие мертвецы», на базе которого в Интернете был создан «шаблон» из нескольких последовательных кадров, причем завершающий обязательно содержит данный фразеоид.
-
3 http://eto-burger-carl.ru/ На сайте указывается, что компания также использует для интернет-ссылки «тэг» #этовкуснокарл.
-
4 Ср. множество вариантов типа в любой непонятной ситуации пей чай , в любой непонятной ситуации эволюционируй , в любой непонятной ситуации корми птицу и т. п. (см.: http://www.net-lore.ru/v_lyuboy_neponyatnoy_situacii ).
-
5 Источником является распространенная подпись с плакатов, посвященных вреду курения: « Это легкие здорового человека, а это легкие курильщика ». В качестве устойчивой фразы фиксируется как подпись к парным картинкам, напр.: это президент здорового человека (фотография В. В. Путина), а это президент курильщика (фотография Б. Обамы); это кот здорового человека (фотография пушистого кота), а это кот курильщика (фотография кота породы сфинкс) и т. п. (Здесь и далее примеры употреблений в сети Интернет приводятся без ссылки на конкретные сайты).
-
6 Источником послужила фраза blood for the blood god из компьютерной игры «Warhammer». Ср. зафиксированное в речи студентов больше
контрольных богу контрольных , больше культуры богу культуры и т. п.
-
7 Судя по всему, источником является интернет-мем На самом деле жизнь очень простая, сынок. Это просто как ездить на велосипеде, который горит, и ты горишь, и все горит, и ты в аду . Ср. в интернет-источниках: « А управлять проектами / делать книжки / быть адвокатом / делать ивенты сложно ? – Совсем нет . Это как ездить на велосипеде, который горит, и ты горишь, и ты в аду ».
-
8 Конструкция возникла из подписи к картинке, содержащей польскую поговорку Robota nie zając, odpoczynek też nie zając; w sumie, nic nie zając, tylko zając to zając .
-
9 Источником послужил рассказ руководителя танцевальной студии о том, как ее дедушка, татарин по национальности, комментировал потенциальный приход покупателей в отсутствие его жены (нанайка – тат. ‘бабушка’), завершая каждую реплику данным высказыванием.
-
10 Источник – фильм-спектакль «День Радио» Д. Дьяченко.
-
11 Напр.: «Слушай, сможешь провести в пятницу занятие вместо меня? Надо походить, обратить внимание на колени и выворотность, поговорить про руки. Наверное, поделать упражнений на руки, типа turn-ов за разное количество тактов, может, шен. Потом разобрать танец или два на set-and-rotate. Ну, где-то примерно вот так …».
-
12 Источник первой фразы – мультсериал «Пинки и Брейн», в котором она звучит в завершении каждой серии; вторая реплика возникла из подписи к картинке в Интернете; третья является финальной репликой анекдота.
-
13 Фраза возникла из ситуации, рассказанной одним из руководителей танцевальной студии: во время отсутствия данного руководителя (Алина) дома происходил повторяющийся в течение 20 минут диалог между ее младшей сестрой и подругой: « А где Алина ? – Гуляет где-то . – Страаанно …»
-
14 Возникновение фразы также обусловлено ситуацией: двое юношей занимались изготовлением доспеха и в процессе сломали необходимый для этого инструмент. Купили новый, и через 15 минут работы состоялся диалог: « Готово !» – « Что готово ?» (второй юноша предположил готовность доспеха и удивился) – « Сломал !»
-
15 Так, например, реакция < Логично > – А мне кто ? возникла на базе диалога, в котором участник и участница танцевальной студии перед балом выясняли, кем приходятся друг другу их персонажи: «Ты мне кто? – Сестра мужа». – «Ммм… нет, давай без извращений. Попробуем еще раз: так ты мне кто?» – «Жена мужа». – « Логично … а мне кто ?»
ON THE STATUS OF SOME STABLE UNITS
IN THE DISCOURSE OF A SMALL SOCIAL GROUP
Ekaterina S. Kogan
Researcher in the Toponymic Laboratory of the Department of Russian Language and General Linguistics Ural Federal University named after the First President of Russia B. N. Yeltsin
ResearcherID: K-7184-2017
Submitted 05.07.2017
Список литературы О статусе некоторых устойчивых единиц в речи социальной микрогруппы
- Архангельский В. Л. Устойчивые фразы в современном русском языке. Основы теории устойчивых фраз и проблемы общей фразеологии. Ростов н/Д: Изд-во Ростов. ун-та, 1964. 316 с.
- Ахманова О. С. Очерки по общей и русской лексикологии. М., 1957. 296 с.
- Баранов А. Н., Добровольский Д. О. Аспекты теории фразеологии. М.: Знак, 2008. 656 с.
- Бондаренко В. Т. Ответные реплики в русской диалогической речи: Словарь. Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л. Н. Толстого, 2013. 339 с.
- Гаврин С. Г. Заметки по теории фразеологии // Проблемы устойчивости и вариантности фразеологических единиц: материалы межвуз. симпозиума (1968). Тула, 1972. Вып. 2: Ответы на вопросы анкеты. С. 127-142.
- Ковалева Л. В. Фразеологизация как когнитивный процесс. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2004. 184 с.
- Лингвистический энциклопедический словарь / под ред. В. Н. Ярцевой; Ин-т языкознания АН СССР. М.: Сов. энцикл., 1990. 682 с.
- Меликян В. Ю. Современный русский язык: синтаксическая фразеология: учеб. пособие. 2-е изд., стереотип. М.: ФЛИНТА, 2014. 232 с.
- Минский М. Фреймы для представления знаний. М.: Энергия, 1979. 151 с.
- Мокиенко В. М. Славянская фразеология: учеб. пособие для филол. спец. ун-тов. М.: Высш. школа, 1980. 207 с.
- Мокиенко В. М., Никитина Т. Г. Фразеология в контексте субкультуры (фразеология в жаргоне и жаргон во фразеологии) // Фразеология в контексте культуры. М.: Языки рус. культуры, 1999. С. 80-85.
- Ройзензон Л. И. Еще раз о воспроизводимости как признаке фразеологичности // Вопросы фразеологии: тр. Самарканд. гос. ун-та им. Алишера Навои. Самарканд, 1972. Новая серия. Вып. 219, ч. 1. С. 17-21.
- Телия В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. 288 с.
- Телия В. Н. Фразеологизм // Русский язык: Энциклопедия. М.: Большая сов. энцикл.; Дрофа, 1997. С. 605 -607.
- Харри В. Фразеология и нонстандарт // Rossi-ca olomoucensia XLVIII. Sbornik pfispevku z mezinarodni conference XX. Olomoucke dny rusi-stu. 02.09 - 04.09.2009. Olomouc, 2009. P. 9-13.
- Чернышева И. И. Фразеология современного немецкого языка. М.: Высш. школа, 1970. 200 с.
- Шмелев Д. Н. Современный русский язык. Лексика. М.: Просвещение, 1977. 335 с.
- Янко-Триницкая Н. Фразеологичность языковых единиц разных уровней языка // Известия АН ССР ОЛЯ. 1969. Т. 28, вып. 5. С. 429-436.
- Gill Ph. Reassessing the canon. 'Fixed' phrases in general reference corpora // Phraseology: An Interdisciplinary Perspective. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing, 2008. P. 95-108.