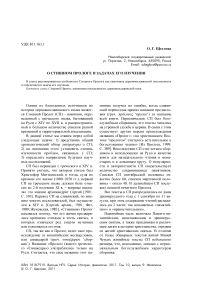О Стишном Прологе и задачах его изучения
Автор: Щеглова Ольга Георгиевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 9 т.10, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются особенности Стишного Пролога как памятника церковнославянской письменности и определяются задачи его изучения.
Стишной пролог, памятники письменности, церковнославянский язык
Короткий адрес: https://sciup.org/14737604
IDR: 14737604 | УДК: 811.163.1
Текст научной статьи О Стишном Прологе и задачах его изучения
Одним из благодатных источников по истории церковнославянского языка является Стишной Пролог (СП) – памятник, переведенный с греческого языка, бытовавший на Руси с XIV по XVII в. и распространенный в большом количестве списков разной временной и территориальной локализации.
В данной статье мы ставим перед собой следующие задачи: 1) представить общий хронологический обзор литературы о СП; 2) на основании этого установить степень изученности проблем, связанных с СП; 3) определить направление будущих научных исследований.
СП был переведен с греческого в XIV в. Принято считать, что автором стихов был Христофор Митиленский, и тогда, судя по времени его жизни (1000–1050 гг.), первый СП на греческом языке должен быть отнесен ко 2-й половине ХI в. – впервые высказал это мнение архимандрит Сергий [1901. С. 330]. Перевод СП на славянский, по мнению многих исследователей, был осуществлен в ХIV в. [Cергий, архим., 1901; Фет, 1980; Жуковская, 1983]. «Стишным» Пролог назывался потому, что его жития предварялись краткими стихами в честь святых, в которых означался род смерти мученика или толковалось его имя.
СП, так же как и Пролог, ведет свое происхождение от византийских месяцесловов, или синаксарей (греч. συναξάριον ‘сборник’). Название «Пролог» (вместо греческого «Синаксарь») употреблялось только на Руси. Считается, что свое название этот па- мятник получил по ошибке, когда славянский переводчик принял название предисловия (греч. πρόλογος ‘пролог’) за название всей книги. Первоначально СП был богослужебным сборником, его тексты читались на утренней службе в церкви. В связи с этим существует другая версия происхождения названия «Пролог»: «на христианском Востоке “прологом” считалось вступительное к богослужению чтение» [Из Пролога, 1999. С. 389]. Впоследствии СП стал четьим сборником и использовался на Руси в качестве книги для назидательного чтения в монастырях и в домашнем кругу. О популярности и авторитетности СП свидетельствует количество сохранившихся памятников. Списков СП сентябрьской половины известно более 60, списков мартовской половины – около 40. В дальнейшем СП послужил основой печатного Пролога.
Все тексты в СП распределялись по дням древнерусского года с 1 сентября по 31 августа, при этом содержание чтений распадалось на 2 части: так называемые «памятий-ную» и «нравоучительную».
Памятийная часть включала Памяти византийским, инославянским и древнерусским святым, а также праздникам и различным датам в истории христианства, отрывки из житий христианских святых. В отличие от более обширных текстов житий Миней Четьих житийные тексты СП небольшого размера, что, несомненно, связано с первоначальным богослужебным характером сборника.
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2011. Том 10, выпуск 9: Филология © О. Г. Щеглова, 2011
Нравоучительная часть содержала сказания, нравоучительные повести и слова отцов Церкви. Появление этой части произошло уже на древнерусской почве. В греческом Синаксаре, как и в южнославянском СП, такой традиции не было. Обычно статьи нравоучительной части представляли собой отрывки из переводной житийно-повествовательной литературы. В ней можно встретить Слова от бесед св. отца Зосимы, Слова Григория Беседовника (Богослова) и Слова от патерика, Слова св. Ефрема, Слова Иоанна Златоустого, Слова от Лимониса и др. Иногда древнерусские книжники составляли и собственные произведения на морально-этические темы. Мнение Л. П. Жуковской о Прологе можно в полной мере отнести и к СП: «Пролог и в истоках, и в своей многовековой эволюции был связан почти со всем объемом письменности: с литературой, обслуживающей нужды церкви, с собственно повествовательной литературой, с “учительной” и с конкретными сборниками “устойчивого содержания” типа “Златоуста”» [Жуковская, 1983. С. 111].
Несмотря на то, что по сути своей русский СП является произведением переводным, стоит отметить, что и древнерусские книжники привнесли в его состав много нового, того, чего не было в греческом Стиш-ном Синаксаре. Вследствие этого русский СП можно рассматривать как произведение в большей степени оригинальное, лишь основанное на переводном памятнике. Древнерусские книжники даже создавали стихи к памятям славянских святых.
СП до сих пор не изучался отдельно от нестишного (за исключением наших работ [Злыгостьева, 1993; 1996; 1997; 2000; Щеглова, 2008; 2009а; 2009б] и работ болгарского литературоведа Г. Петкова [1990; 1999; 2000]). Почти все исследователи, обращавшиеся к изучению Пролога, так или иначе упоминали и о СП, высказывая некоторые верные предположения относительно его истории, но все эти догадки и замечания были сделаны без обращения к источникам, к тексту самого СП.
Одним из первых обратился к Прологу и определил его ценность В. М. Ундольский. Он писал: «Пролог – книга всего чаще употребляемая во всем Греко-Русском христианском мире и всего менее исследованная нашими учеными, между тем содержащая множество истинных драгоценностей и для духовного и для светского ученого, не только в рукописях, но и в печатных изданиях» [1846. С. 81]. В. М. Ундольскому было еще неизвестно, кто и когда составил Пролог, тем не менее ученый заметил, что первоначально Пролог содержал только краткие памяти святым, впоследствии же пополнился « поучительными словами и выписками из патериков». Он же разделил «славянские Прологи на три разряда: 1, краткие без поучений и других прибавочных статей; они редки...; 2, со вставочными статьями и со стихами перед каждым днем года; и 3, со вставочными статьями, но без стихов. Второго разряда Прологи довольно редки, а последнего всего чаще встречаются» [Там же. С. 82–83].
Начиная с XIX в., ученые разных стран рассматривали вопросы возникновения и распространения Пролога [Сергий, архиеп., 1875; Петухов, 1894; Сперанский, 1914; Mošin, 1959; Фет, 1980], его содержания и языка, исследовали источники нравоучительной части, издавали оригинальные славянские сочинения в его составе, предпринимали попытки издания отдельных списков Пролога. Достаточно подробный обзор литературы о Прологе, сделанный Е. А. Фет, представлен в ее статье «Словаря книжников и книжности Древней Руси» [Пролог, 1987]. С тех пор появилось много новых исследований Пролога в разных аспектах. Их характеристику можно найти в монографии М. В. Чистяковой «Текстология вильнюсских рукописных Прологов: сентябрь – ноябрь» [2008. C. 24–26]. Следует отметить, что, исследуя списки Пролога из библиотечных собраний Литвы, автор вводит в научный оборот также и рукописные списки СП, созданные в Великом княжестве Литовском, определяет их состав, языковые особенности, текстологические источники.
Наиболее крупное исследование Пролога в дореволюционной России было предпринято архиепископом Сергием в книге «Полный месяцеслов Востока», впервые вышедшей в 1875 г. [Сергий, архиеп., 1875], второе издание, уточненное и дополненное, опубликовано в 1901 г. [Сергий, архим., 1901]. Особый раздел в книге Сергия посвящен СП. Автор пишет об их отличительных особенностях: «1) ...сии прологи несравненно богаче памятями и сказаниями, чем месяцеслов Василия и обе его редакции, чем Прологи Петров и Кларомонтанский; 2) язык этих сказаний более искуствен, чем в месяцеслове Василия и обеих его редакциях; 3) сказания очень неравномерны: одни очень кратки, другие очень велики, так что походят на жития, есть между ними и средние; 4) при каждой почти памяти находятся или два стиха ямбические или три стиха – два ямбические и один героический, три стиха находятся при первом святом дня; 5) в некоторые дни находятся после сказаний нравственные повести» [Там же. С. 323].
Исследователь полагает, что составитель СП имел под рукой различные виды Прологов, в том числе Петров, Кларомонтанский и месяцеслов Василия, из которого были прямо взяты некоторые сказания. Вероятно, что создатель СП и сам составил некоторые жития, особенно пространные. Несомненно, что он имел «синаксари другие и другого рода», в которых означался род смерти мучеников, поскольку в СП имеются памяти такого вида, тогда как в известных прологах «род смерти мучеников, о коих нет сказаний, не означается» [Там же. С. 324]. Сергий пишет о существовании двух редакций греческого Стишного Синаксаря: краткой и пространной. «Возможно, автором краткой редакции, возникшей не ранее 1 пол. ХII в., является Маврикий, дьякон Великой Церкви в Константинополе» [Там же. С. 326]. Само содержание СП указывает на независимость автора от главных центров иноческой жизни. «В дальнейшем, видимо в ХIII–ХIV вв., СП был приведен в соответствие с иерусалимским уставом» [Там же. С. 329]. Первых, переведенных на славянский язык в ХIV в., Стишных Прологов сохранилось очень немного. Сергию были известны список 1370 г. сербского извода, отрывок ХIV в. болгарского извода и один русский список до ХV в. из собрания Чудовского монастыря.
Е. В. Петухов, обращаясь к истории древнерусского Пролога, отмечал: «Позднее обыкновенного Пролога в греческой церкви получил существование стишной Пролог... По содержанию он находится в несомненной связи с обыкновенным Прологом императора Василия и происшедшими от него редакциями, но с прибавлениями многих памятей и сказаний; в изложении его замечается более искусственности» [1894. С. 5]. По мнению Е. В. Петухова, Стишной Пролог составлен не ранее 2-й половины ХII и не позднее начала ХIII в. Более пространная редакция греческого СП явилась не ранее Х III и не позднее ХIV в. «Стишной Пролог греческий повел за собою существование СП славянского» [Там же].
В 1914 г. выходит «История древней русской литературы» М. Сперанского [1914], в которой среди пособий «церковно-исторического и в то же время учительного характера» автор рассматривает Пролог. Останавливаясь на особенностях СП по сравнению с простым, автор пишет: «Стишной отличается от простого и редакциями отдельных житий, и самим составом всего памятника... сверх того, при каждом житии... помещается стих – два-три, чаще всего ямбических (в греческом) стиха, содержащих характеристику святого, чаще всего, в виде истолкования его имени» [Там же. С. 197]. По мнению Сперанского, СП «...явился в Византии довольно поздно, около ХII–ХIII в., и вскоре был переведен на болгарский (вероятно, в эпоху Ефимия), быстро вытеснил старый “простой” на юге славянства, а в ХV в. появился и у нас, но здесь он застал уже ставший популярным и осложнившийся старый Пролог “простой”; поэтому в русской письменности он заменить собой старого Пролога не мог, а стал лишь источником для дополнения, расширения этого русского Пролога и в отдельных русских списках встречался редко» [Там же].
-
А. И. Яцимирский впервые указал на существование двух переводов СП: болгарского и сербского [1916].
О СП делали замечания и советские ученые, исследовавшие Пролог простой. Так, в статье «Славяно-русские Прологи» Н. Д. Бубнов характеризует СП как особый вид Пролога, кратко останавливаясь на уже известных его отличительных особенностях и времени его перевода на славянский. Автор также не совсем справедливо, по нашему мнению, утверждал, что «СП редакций не имеет» [1973. С. 283].
-
Е. А. Фет, приводя данные, свидетельствующие о существовании 3-й редакции Пролога, появившейся в Пскове в ХV в., сделала несколько замечаний относительно СП: «Наряду с обыкновенным... Прологом на Руси обращался Стишной Пролог, имевший независимое происхождение (история его до сих пор не исследована). Он был принесен в конце ХIV в. из Сербии, переписывался на Руси в нескольких редакциях и был использован при составлении
первого Печатного Пролога 1641 г.» [1980. С. 55].
Л. П. Жуковская осуществила лингвотекстологическое исследование более 380 списков Пролога (в том числе 66 списков СП) сентябрьской половины, результаты которого были изложены в ее докладе на IХ Международном съезде славистов. В частности, ею было выделено 3 редакции СП сентябрьской половины: Стиховая, Неопределенная и собственно Стишная [1983. С. 110–120]. В целом ряде более поздних работ, обращаясь к Прологу и СП, Л. П. Жуковская решала на их материале многие проблемы истории русского литературного языка. В частности, проблемы второго южнославянского влияния [1982а; 1982б; 1982в], грецизации и архаизации русского письма в ХVI в. [1987].
А. А. Турилов обратился к СП в связи с изучением оригинальных южнославянских сочинений в русской книжности ХV–ХVI вв. По его мнению, СП был привезен на Русь митрополитом Киприаном, который способствовал введению Иерусалимского устава. На материале СП исследователь решал вопросы времени появления и степени распространения болгарской и сербской агиографии на Руси [1978. С. 39–50]. А. А. Турилов также отметил, что присоединение к СП учительной части происходило на Руси в течение XV–XVI вв. неоднократно [2006. С. 73], это подтверждается и нашими исследованиями [Злыгостьева, 2000; Щеглова, 2009].
В своем диссертационном исследовании [Злыгостьева, 1993], проанализировав состав 30 списков СП мартовской половины года, мы пришли к следующим выводам: мартовские списки СП появились в Древней Руси в ХV в. в результате переработки южнославянских списков. Списки весеннего полугодия существовали на Руси, по крайней мере, в 5 группах (редакциях). Они сформировались в результате целенаправленной редакторской деятельности уже при освоении южнославянского СП в ХV в., который сразу же был дополнен на русской почве нравоучительной частью. Наиболее распространенной была Хутынская редакция. Текстологические особенности и лексические разночтения подтверждают выделение 5 групп СП мартовской половины. Развитие лексического состава СП происходило под влиянием двух факторов: а) посте- пенного изменения языка СП в результате рукописного бытования (многократного переписывания) сборника; б) целенаправленного редактирования языка и стиля СП.
В наши дни наиболее значительное исследование СП предпринято болгарским ученым Г. Петковым. Основные результаты его деятельности изложены в монографии «Стишният Пролог в старат българска, сръбска и руска литература (XIV–XV век)» [2000]. В ней автор рассматривает археографические, текстологические и литературно-исторические проблемы Стишного Пролога. Определяя СП как памятник с многосложной историей, Г. Петков в первую очередь обращается к вопросам возникновения и распространения СП на фоне трех старославянских рукописных традиций – болгарской, сербской и русской. Он выделяет четыре редакции болгарского перевода: тырновскую, лукиеву, московскую и новгородскую; сербский перевод представлен в монографии варлаамовой редакцией [Там же. С. 46–47]. Исследователем выявлен годовой состав СП при сравнительном изучении 15 болгарских, сербских и русских рукописей, возникших между 40–50-ми гг. XIV в. и 70–80-ми гг. XV в. Отдельная глава монографии посвящена анализу литературных особенностей самих проложных стихов – характеристике их структуры, состава, предназначения, связи с церковным уставом, а также их роли в истории эпиграмматической поэзии, определения места про-ложных стихов в жанровой системе староболгарской литературы. Болгарский ученый опровергает до сих пор существовавшее мнение, что Пролог Простой (не-стишной) и Пролог Стишной – это две разновидности одного памятника – Пролога, и отличие между этими разновидностями только в наличии или отсутствии предваряющего проложную статью двустишия, освещающего тему этой статьи. Исследование Г. Петкова свидетельствует о том, что Пролог и СП – это разные памятники и по времени возникновения, и по особенностям бытования в славянской литературе, и по своим структурным признакам, хотя нельзя не отметить одинаковый календарный принцип их составления.
Таким образом, обзор научной литературы показал, что в предшествующих исследованиях определена история перевода СП на церковнославянский язык через посред- ство южнославянских списков, выявлены редакции ранних, XV–XVI вв., списков, описан состав СП зимнего полугодия, выявлены источники нравоучительной части чтений осенних месяцев. Следует отметить, что исследователи сходятся во мнении, что СП – это самостоятельный памятник письменности древней и средневековой Руси, имеющий свою собственную историю, которая требует дальнейшего более глубокого изучения. В частности, необходимо более точно определить время и места перевода СП на церковнославянский язык древнерусского извода, места переработки его древнерусскими книжниками, выявить источники его нравоучительной части, сопоставить с греческим оригиналом и южнославянскими списками. Для того чтобы написать историю СП на Руси, необходимо выявление и обобщенное исследование всех сохранившихся списков СП, в частности, необходимо дальнейшее изучение состава и текстологических особенностей СП мартовской половины года.
СП интересен и в лингвистическом отношении: сравнение одинаковых текстов, относящихся к разному времени, позволило бы судить о развитии церковнославянского языка с ХIV по ХVII в., изучение оригинальных древнерусских произведений в составе СП могло бы способствовать решению проблемы формирования лексического состава русского литературного языка и истории его грамматических категорий. Исследование истории СП на основе всех сохранившихся списков СП в их полном объеме могло бы привести к критическому изданию текста этого памятника.
ABOUT STISHNOI PROLOG AND TASKS OF ITS STUDY