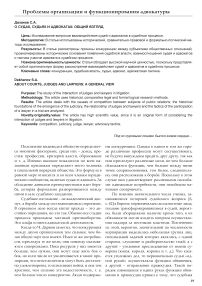О судах, судьях и адвокатах: общий взгляд
Автор: Деханов Сергей Александрович
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Проблемы организации и функционирования адвокатуры
Статья в выпуске: 6 (43), 2019 года.
Бесплатный доступ
Цель: Исследование вопросов взаимодействия судей и адвокатов в судебном процессе. Методология: В статье использованы исторический, сравнительно-правовой и формально-логический методы исследования. Результаты: В статье рассмотрены причины конкуренции между субъектами общественных отношений; проанализированы исторические основания появления судебной власти, взаимоотношения судей и адвокатов и тактика участия адвоката в судебном процессе. Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной ценностью, поскольку представляет собой оригинальную форму рассмотрения взаимодействия судей и адвокатов в судебном процессе.
Конкуренция, судебная власть, судья, адвокат, адвокатская тактика
Короткий адрес: https://sciup.org/140250391
IDR: 140250391
Текст научной статьи О судах, судьях и адвокатах: общий взгляд
Положение индивида в обществе определяется многими факторами, среди них – доход, престиж профессии, критерий власти, образование и т. д. Именно высокие показатели по всем названным признакам определяют место человека в социальной иерархии общества. Эта формула в равной мере относится и ко всем членам юридического сообщества, включая судью и адвоката. За обладание данными преимуществами идет борьба, которая формально разворачивается между ними в зале судебного заседания.
Судебное состязание – не академический диспут, а борьба между состязающимися сторонами. В серьезном деле всегда кипит вражда – это достойно порицания, но это так. Обычно все стадии процесса пронизаны тактикой противоборства. Это альфа и омега адвокатской деятельности.
Когда-то Ч. Дарвин заметил, что конкуренция между двумя организмами тем сильнее, чем более общих черт они имеют. Имея те же потребности, преследуя те же цели, они повсюду оказываются соперниками. Пока ресурсов у них имеется больше, чем нужно, они могут еще жить бок о бок, но если число их увеличивается в такой пропорции, что не все аппетиты могут быть достаточно удовлетворены, то вспыхивает война, и она тем яростнее, чем сильнее эта недостаточность, т. е. чем больше число конкурентов. Люди подверже-
Под их суровыми лицами бьется живое сердце… ны конкуренции. Однако в одном и том же городе различные профессии могут сосуществовать, не будучи вынуждены вредить друг другу, так как они преследуют различные цели, но чем больше сближаются функции, чем больше между ними точек соприкосновения, тем более, следовательно, они расположены к борьбе. Поскольку в этом случае они удовлетворяют различными способами одинаковые потребности, они неизбежно начинают соперничать.
По мнению значительного числа ученых, занимавшихся историей судейского вопроса [6, с. 62] в Европе, первоначально должностные лица, позднее трансформировавшиеся в судей, вероятно, были сборщиками налогов; кроме того, в их обязанности могли входить вопросы осуществления надзора за местными властями. Постепенно из этой, вероятно, значительной по численности корпорации выделилась небольшая группа лиц, специальной задачей которых являлись, с одной стороны, слушание и разбирательство тяжб; а с другой – уголовное преследование от имени суверена (князя, короля, короны и т. д.). Что касается уголовных дел, то первоначально судьи «одной рукой» осуществляли функции обвинения, а другой – отправление правосудия. Такой порядок совмещения в одних руках функции обвинения и правосудия привел к тому, что судебная власть стала скорее властью карающей, нежели органом справедливым и беспристрастным. При сложившемся положении дел появление адвокатов в залах судебных заседаний, с одной стороны, выглядело социально значимым, а с другой – ограничивало неограниченную власть суда и судьи. Подтверждением данного факта является то обстоятельство, что в отдельных европейских странах юридическая гарантия адвокатской деятельности стала не менее надежной, чем защита самого судьи. В истории России такого никогда не было, включая и золотой век русской адвокатуры (1864–1917 гг.). Большинство российских юристов, пришедших в адвокатуру, это хорошо понимали, излишних иллюзий в отношении своего реального статуса не питали и хорошо помнили, что общий ход развития отечественной адвокатуры определяется следующими известными широкой общественности факторами и фактами.
В преданиях о посещении Петром I Англии в 1698 г. сообщается, что, «посетив Вестминстер-Холл (судебное учреждение), Петр I увидев там «законников», т. е. адвокатов в мантиях и париках, спросил:
– Что это за народ?
– Это все законники, Ваше Величество.
– Законники! – удивился Петр. – К чему они? Во всем моем царстве есть только два законника, и то я полагаю одного из них повесить, когда вернусь домой» [9, с. 29].
Подобный подход к адвокатам характерен не только для Петра I.
Е. Васьковский приводит письмо Екатерины II, в котором она высказывается об адвокатах: «Адвокаты, соображаясь с тем, когда и как им заплатили, поддерживают то правду, то ложь, то справедливое, то несправедливое. Адвокаты и прокуроры у меня не законодательствуют и никогда законодательствовать не будут, пока я жива, а после меня будут следовать моим началам» [2, с. 320]. В этом отношении Екатерина II оказалась совершенно права, и Император Николай I с такой же уверенностью говорил князю Голицыну, отстаивавшему необходимость введения адвокатуры: «Нет, князь, пока я буду царствовать, России не нужны адвокаты. Проживем и без них» [2, с. 320].
Не прожили. В 1864 г. в России была создана мощная отечественная присяжная адвокатура, оказавшая значительное влияние на отправление правосудия.
Для института адвокатуры совершенствование способов отправления правосудия играет исключительную роль, так как, по мнению Р. Гарри- 20
са, «Вести судебные дела не так просто, как бить в барабан. Если бы можно было рассказать все ошибки опытных адвокатов, то начинающий сказал бы, что опыт составляет их очень несовершенными и что наше искусство скорее притупляет, чем развивает наши способности. Ошибки более всего сознаются теми, кто уже почти их не делает. Несомненно одно: совершенство недоступно для адвоката; все, что мы можем сделать, – это научиться немногому, отучившись от очень много» [3, с. 332].
Современная судебная власть, будучи порожденной законодательной и исполнительной властями, на определенном этапе отрывается от своих родителей и становится вполне самостоятельной. Эту мысль подтверждает и Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»: судебная власть в Российской Федерации принадлежит только судам в лице судей и привлекаемых в установленном законом порядке к осуществлению правосудия присяжных заседателей и других представителей народа. Судебная власть самостоятельна и действует независимо от законодательной и исполнительной властей. Суды осуществляют принадлежащую им власть независимо от чьей-либо воли, подчинясь только Конституции РФ и федеральному закону. Об этом знает каждый судья, и в этом формально все судьи одинаковы. Отличия проявляются в другом: каждый судья имеет личный житейский опыт, влияющий на его подход к жизни и поэтому на его подход к праву.
Известный израильский судья А. Барак писал в своей книге «Судейское усмотрение», что судья, имевший опыт в Веймарской республике, не так будет относиться к деятельности антидемократических политических партий, как кто-то, такого опыта не имеющий. Есть судьи, для которых соображения безопасности значат много больше, чем для других судей. Есть судьи, для которых соображения свободы слова значат много больше, чем для других судей. Есть судьи, у которых черты личности требуют порядка и дисциплины, есть агрессивные судьи, и свою агрессию они будут вымещать в том числе и на адвокате.
Наряду с житейским опытом есть второй фактор судебной функции; другими словами, то, как судья понимает свою судебную роль в судебном процессе. Различные судьи будут приходить к различным результатам, поскольку различны их личный опыт и их мировоззрение. Один и тот же судья может прийти к различным результатам в разное время, ибо с течением времени изменяются и его личный опыт, и его судейское мировоз- зрение. Иногда судья, столкнувшийся с трудным делом, может оказаться перед сложной дилеммой, поскольку его личный опыт и его судейское мировоззрение не приводят его к выбору единственной возможности, но, напротив, тянут его в различных и подчас противоположных направлениях. Его личный опыт может советовать ему быть осторожным. Его судейское мировоззрение может подстрекать его быть смелым. Он знает, что должен сбалансировать оба побуждения, но какой вес ему следует придать разным факторам? В этой области объективные стандарты не помогают. Судья остается один. Внутри него может бушевать битва, ибо иногда побуждения двигаться в разных направлениях равносильны. Он обнаружит, что колеблется и раздумывает. Могут пройти дни и недели, прежде чем он будет в состоянии принять решение. Это будет наилучшим решением, которое судья может вынести, однако оно будет нести на себе печать его личности.
Поэтому в трудных делах, когда объективные стандарты не помогают, решение принимается самим судьей как продукт его личного опыта и его мировоззрения. Его судейская философия может быть компасом, указывающим правильный путь. Таким образом, в трудных делах окончательное решение в большой мере зависит от судейской философии судьи, от его подхода к судебной функции и от его судейского мировоззрения» [2, с. 160–163].
О том, что судьи не одинаковы, можно говорить много и долго, однако как все же должен вести себя адвокат в процессе с тем, чтобы установить правильный контакт с судом (судьей)?
Выдающийся российский адвокат Юрий Шмидт в книге «Адвокаты свободы», говоря о наиболее известных ленинградских мэтрах, оказавших большое влияние на его профессиональное становление, вспоминает Георгия Петровича Яр-женца как пример умения устанавливать необходимый контакт с судьей: «Он не был гениальным оратором или мастером перекрестных допросов, но имел особый дар общения с судьями, его выступление было не речью, скорее доверительным разговором. И когда он получал слово, то обращался к судьям, как бы призывая их совместно и прямо сейчас обсудить возникшую проблему. Казалось, он просто ведет диалог, даже не особо споря, подсказывая судье правильное направление мысли. Как-то постепенно, вроде само собой получалось, что все другие возможные оценки уступают место одной: той, которую он вроде бы сам и не дает, а подводит к ней судью. Незаметно, ни на чем не настаивая, не подавляя судью, ни даже прокурора. Он незаметно превращал судью не просто в своего сторонника, а как бы выявлял то, что думал сам судья. И его дела чаще всего заканчивались хорошо» [11, с. 153].
Вице-президент Адвокатской палаты Москвы Вадим Клювгант применительно к рассмотрению данного вопроса говорит следующее: «Мы говорим не только словами, но и всем своим видом. Поэтому, прежде всего, адвокатам нельзя приходить в суд помятыми и неопрятными, одетыми, как на пляж, «горнолыжку» или в ночной клуб. Это не только недопустимый моветон и нарушение правил профессиональной этики, но и внятный сигнал не воспринимать всерьёз такого адвоката и всё, что он скажет… «Говори не так, чтобы тебя можно было понять, а так, чтобы тебя нельзя было не понять» [12].
Член Общественной палаты РФ Анатолий Кучерена на этот вопрос отвечает так: «Золотое правило – вести себя достойно, без повадок, свойственных человеку в быту… Говорить нужно чётко и исключительно применительно к предмету судебного заседания: искоренить вольности, связанные с риторическими, философскими размышлениями. Это, как правило, не идет на пользу – превращается в смех или хохму, в зависимости от ситуации. Судьи, как правило, всегда с уважением относятся к той стороне в процессе, которая старается не выходить за рамки предмета, того, что связано с конкретным делом» [12].
«Не стоит умалять достоинство судьи, даже если он / она не правы. Судья – главный дирижер процесса, и юристу полезно это помнить. Не стоит сомневаться в сказанном, даже если по сути это неверно. Иногда напор и уверенность в своей правоте помогают больше, чем точное цитирование законов и судебной практики... Не стоит также припасать аргументы «на потом», лучше сразу обозначить всю палитру ходатайств и аргументов по делу. Тактика партизанской войны, как правило, не помогает в российском суде», – говорит Евгений Жилин, партнер QUORUS [12].
Максим Кульков, управляющий партнер «Кульков, Колотилов и партнёры», считает: «Не надо обращаться к своим оппонентам, тем более спорить с ними… Не надо лебезить перед судьями… Не стоит ни читать с листа, ни учить речь. Первый вариант скучен, второй – неубедителен» [12].
По этому вопросу можно привести точки зрения и других адвокатов. Несомненно одно: каждый адвокат должен обладать собственными тактикой, техникой и стилем видения процесса [4, с. 5–8; 5, с. 5–9].
Исследуя тему взаимоотношений судьи и адвоката, мы просто не имеем права не вспомнить работу А.Ф. Кони «Общие черты судебной этики» [10, с. 19–48]. Говоря об изучении судопроизводства с точки зрения судейской деятельности, Анатолий Федорович считал, что особенно важна в нравственном отношении область изучения поведения судьи. Это поведение не есть простая совокупность поступков, следующих один за другим в порядке времени, – это систематический и последовательный ряд деяний, связанных между собой одним и тем же побуждением и одной и той же целью. Иными словами, это сознательный образ действий, одинаково применимый ко всем разнообразным случаям судебной и судебно-бытовой жизни, предусмотреть который заранее невозможно. Поэтому положительный закон, говорящий об отправлении правосудия, не в силах начертать образ действий судьи во всех его проявлениях. В деятельности судьи воедино должны сливаться и правовые, и нравственные требования. Сюда относится правильное обращение и со свидетелем, и с подсудимым, и с адвокатом, и с другими участниками процесса. В выполнение форм и обрядов, которыми сопровождается правосудие, должен вноситься вкус, чувство меры, такт, ибо суд есть не только судилище, но и школа. Здесь этические требования сливаются с эстетическими, оправдывая свою внутреннюю связь, подмеченную некоторыми мыслителями [10, с. 36]. Поэтому следует изучать не только судебную технику, судебную практику, но и судебную этику, так как, как бы ни были хороши правила деятельности, они могут потерять свою силу и значение в неопытных, грубых и недобросовестных руках [10, с. 20].
Всякое право в мире было добыто путем столкновений, каждое важное правовое начало нужно было сначала отвоевывать у тех, кто ему противился, и каждое право – все равно, отдельного лица или целого народа, – предполагает постоянную готовность его отстаивать. Право есть не просто мысль, а живая сила. Поэтому-то богиня правосудия, имеющая в одной руке весы, на которых она взвешивает право, в другой держит меч, которым она его отстаивает. Меч без весов есть голое насилие, весы без меча – бессилие права. Право – непрерывная работа, работа не только одной государственной власти, но всего народа. Вся жизнь права – картина напряженного и систематического труда всей нации, каждого индивидуума в отдельности [7, с. 17].
Список литературы О судах, судьях и адвокатах: общий взгляд
- Барак А. Судейское усмотрение: пер. с англ. М.: НОРМА, 1999.
- Васьковский Е.В. Организация адвокатуры. Ч. 1. СПб., 1893.
- Гаррис Р. Школа адвокатуры: пер. с англ. Тула: Автограф, 2001.
- Деханов С.А. Проблемы соотношения судебной власти и правосудия в правовом государстве // Законодательство и экономика. 2012. № 12. С. 5-8.
- Деханов С.А. Общие вопросы Адвокатской тактики, техники и стиля //Адвокат. 2012. № 9. С. 5-9.
- Дженкс Э. Английское право. М.: Юридическое изд-во Минюста СССР, 1947.
- Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. М.: Канон, 1996.
- Иеринг Р. Борьба за право. М.: Феникс, 1991.
- История русской адвокатуры. Том первый. Адвокатура, общество и государство (1864-1914). М.: Юрист, 1997.
- Кони А.Ф. Нравственные начала в уголовном процессе (общие черты судебной этики) // Кони А.Ф. Избранные произведения. М.: ГОСИЗДАТ: Юридическая литература, 1956.
- Шмидт Ю. Адвокаты свободы. М., 1988.
- https://pravo.ru/story/view/138194.