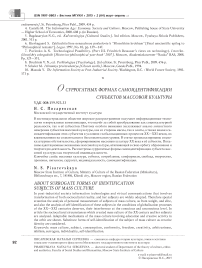О суррогатных формах самоидентификации субъектов массовой культуры
Автор: Писаревская Наталья Сергеевна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 2 (64), 2015 года.
Бесплатный доступ
В постиндустриальном обществе широкое распространение получают информационные технологии и виртуальные коммуникации, что влечёт за собой преобразование как социокультурной реальности, так и её субъектов. Поэтому особого внимания заслуживает анализ личностного измерения субъектов массовой культуры, как со стороны массы, так и элиты, а также анализ самоидентификации этих субъектов в условиях глобализационных процессов XX-XXI веков, их взаимовлияния на сознательном и бессознательном уровне. В статье проанализированы социокультурные обстоятельства, сформировавшие массовую культуру ХХ века и её субъекты. Показаны адаптационные механизмы массовой культуры, втягивающей в свою орбиту образование и творческую деятельность. Рассмотрены суррогатные формы самоидентификации субъекта массовой культуры как творческой индивидуальности.
Массовая культура, субъект, потребление, конформизм, свобода, творчество, произвол, нигилизм, суррогат, индивидуальность, самоидентификация
Короткий адрес: https://sciup.org/144160924
IDR: 144160924 | УДК: 008:159.923.33
Текст научной статьи О суррогатных формах самоидентификации субъектов массовой культуры
пи са рев ская на та лья сер ге ев на — со ис ка тель ка фед ры тео рии куль ту ры, эти ки и эс те ти ки социально-гуманитарного факультета Московского государственного института культуры
PISAREvSKAyA nATAl'yA SERGEEvnA — doctoral student of department of the theory of culture, ethics and aesthetics, Faculty of Social Studies and humanities, Moscow State Institute of Culture
на протяжении хх века, начиная с известных кри ти че ских про из ве де ний х. ор те га-и-гас се та, ж. бод рий я ра, г. гес се и др. [см.: 2, 3, 11, 12], по ня тие «мас со вая куль ту ра» на пол-нялось негативным смыслом, что объясняется специфическими чертами культуры индустриального общества. но в ситуации перехода к постиндустриальной эпохе и качественного изменения общества массового потребления, превращения его в информационное общество возникают надежды и на качественное изменение культурной реальности, на развитие в ней «эм брио наль но го пред ше ст вен ни ка» (а. я. Фли ер) но во го со цио куль тур но го фе номе на.
в поисках такого начала внутри современной массовой культуры исследователи делают акцент на том, что субъектом этой культуры является не только масса, но и индивид, включённый в многообразные связи с другими ин-ди ви да ми. «с воз рас та ни ем его об ра зо ва тельного уровня, новых потребностей, формирующихся в условиях стремительно модернизирующихся различных сфер человеческого общества, — пишет в. а. тихонова, — изменяются и культурные потребности масс в целом и личности в частности. Это является основой рассуждений о возможности изменения характера массовой культуры от “дегуманизированного” (термин хосе ортега-и-гассета) к “сверх гу ма ни зи ро ван но му”» [10, с. 21].
в свете таких прогнозов, связанных с гуманизацией массовой культуры и её субъектов, важно понять, что и как можно преодолеть путём повышения образовательного уровня и развития потребностей индивида, и в какой момент может быть востребована духовная составляющая культуры, её высокие образцы? но прежде всего следует разобраться, почему сегодня возрастание образовательного уровня и возникновение новых потребностей не создают почвы для творческого развития субъекта, почему поведение и самоидентификация индивида в качестве творца по-прежнему имеют превратную форму.
рассмотрим комплекс социокультурных обстоятельств, которые не только вызвали, но и под дер жи ва ют су ще ст во ва ние ог ра ни чен ных субъ ек тов мас со вой куль ту ры.
ещё XIX век, ознаменовавшийся повсеместным внедрением индустриальных технологий, потребовал новых кадров, способных осуществлять различные виды деятельности, что, в свою очередь, повлекло изменение системы образования и увеличение числа грамотного населения. развитие демократических процессов в хх веке обусловило приобщение широких слоёв населения к экономической, политической и культурной жизни. достижения цивилизации позволили людям расширить список своих потребностей, однако сложившаяся массовая культура оказалась болезнью культуры, а человек-масса — суррогатом лично сти.
здесь стоит вспомнить, как х. ортега-и-гассет в испании в 1930 году писал о доминировании человека-массы, не обладающего индивидуальными чертами, но агрессивно утверждающего свою особенность. а зарождение этого человеческого типа описал ещё Ф. М. дос то ев ский — в об ра зе «под поль но-го че ло ве ка»: «све ту ли про ва лить ся, или вот мне чаю не пить? — задаёт риторический вопрос герой “записок из подполья”. — я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить» [4, с. 498]. уже здесь прослеживается доминирование эгоистических желаний над любыми духовными ценностями.
если ремесленник доиндустриальной эпохи производил продукцию для некоторых, то машинная техника даёт возможность обеспечить многих, даже большинство. развитие техники и промышленная революция позволили выставлять на рынок больше продукции, но внедрение машинного способа производства привело к унификации. индивидуальное производство превратилось в массовое, поскольку было рассчитано на широкий круг потребителей. товары стали производить по неким клише, поэтому теперь они отличаются, факти-че ски, не ка че ст вом, а ко ли че ст вом. «Энер гия и машины изменили природу труда. навыки распались на их компоненты, и ремесленника прошлых лет заменили две новые фигуры — инженер, отвечающий за общую организацию и ведение работы, и полуквалифицированный рабочий, олицетворяющий человеческое “ко лё си ко” ме ж ду ма ши на ми…» [1, с. 170]. при этом че ло ве че ское «ко лё си ко» в этих новых условиях становится и главным потребителем произведённых благ. и в результате промышленное общество в хх веке становится массовым потребительским обществом.
к концу хх века, когда коммерциализация распространилась на все сферы общества, социальным индикатором стало именно при-об ре те ние тех или иных благ. «к это му облегчению жизни и к экономической обеспеченности присоединяются физические блага, комфорт, общественный порядок, — писал в хх веке ортега-и-гассет. — жизнь катится, как по рель сам…» [12, с. 54]. в XX ве ке жи тели городов, обыватели превращаются в массу потребителей, для которых важен не столько продукт, сколько сам процесс потребления. но «по треб ле нию при су щи про ти во ре чи-вые свойства: с одной стороны, оно ослабляет ощущение тревоги и беспокойства, поскольку то, что стало моим, не может у меня быть отобрано; но, с другой стороны, это вынуждает меня приобретать все больше и больше, так как всякое приобретение вскоре перестаёт при но сить удов ле тво ре ние» [12, с. 49].
сто ит со гла сить ся с Э. Фром мом, ко то рый писал о том, что современный человек обла-да ет ры ноч ным ха рак те ром и «…вос при ни-мает всё как товар, — не только вещи, но и саму личность, включая её физическую энергию, навыки, знания, мнения, чувства, даже улыбки. такой тип — явление исторически новое, ибо он возникает в условиях развитого капитализма, ещё всё вращается вокруг рынка — рынка вещей, рынка рабочей силы, личностного рынка, — и его главная цель — в любой ситуации совершить выгодную сделку» [11, с. 27]. в сис те ме ко ор ди нат «быть» или «иметь», пред ло жен ной Фром мом, творческие способности превращаются в аналог товаров и услуг. соответственно, превратной становится самоидентификация субъекта мас со вой куль ту ры.
-
к. Маркс ви дел в по треб ле нии и об ла да нии отчуждение человека от собственных эстети-че ских и ду хов ных чувств. «ча ст ная соб ст-венность сделала нас столь глупыми и односторонними, что какой-нибудь предмет является нашим лишь тогда, когда мы им обладаем, то есть когда он существует для нас как капитал или когда мы им непосредственно владеем, едим его, пьём, носим на своём теле, жи вём в нём и т.д. — од ним сло вом, ко гда мы его по треб ля ем …» [8, с. 98]. а в на ши дни человек смотрит не на качество товаров, а на то, насколько престижно их использование. все подчинено повышению внешнего социально го ста ту са.
одной из причин суррогатности духовной жизни хх века ортега-и-гассет считал систему образования. ведь в школе, которой так гордились в XIX веке, позднее уже занимались не воспитанием души, а обучением навыкам и технике современного существования. в ра бо те «дег у ма ни за ция ис кус ст ва» ор те-га-и-гас сет пи шет: «де тей обу ча ли то му, как наиболее интенсивно прожить свою жизнь, но не воспитывали готовности к осуществлению великих исторических задач; им насильно прививали гордость достижениями цивилизации и навыки управления современной техникой, но забыли о воспитании духа. поэтому нашего современника и не интересуют духовные ценности» [12. с. 79]. в результате образование превратилось в потребительский суррогат. то же самое происходит со свободой и творчеством массового индивида.
дело в том, что массовое общество предполагает идентификацию человека с большинством, но этот конформизм переходит в свою противоположность там, где заходит речь о творческих возможностях и творческой свободе человека. именно здесь обнаруживаются противоречивые механизмы самоидентификации человека в массовом обществе. се го дня «твор ца ми куль ту ры» дви жет же ла-ние получить наибольшую прибыль наимень-ши ми уси лия ми. по это му «все по мыс лы ря до-вого служителя культуры, подчинённые коммерческой цели или не чуждые ей, направлены на то, чтобы угодить потребителю, но потребитель его услуг, предлагаемых в виде газетных статей, радиопостановок или других развлечений, сам является рабом той системы, ко то рая его об слу жи ва ет» [5, с. 254].
на ша эпо ха от ли ча ет ся вла стью «сред них» лю дей, ко то рые как «элек то рат» и «мас со вый по тре би тель» яв ля ют ся сур ро га том «на ро да». вследствие этого у представителей массы возникает ощущение, что именно они творят сегодняшнее общество и культуру. Масса осознает себя как группа, регламентирующая потреблением качество производства, а потому выступает в роли экономического субъекта.
представители элиты тоже живут по канонам потребления, претендуя на уникальность за счёт обладания. таким образом, элита также зависит от массовых стандартов. разница заключается лишь в цене. тем самым наиболее обеспеченные представители общества пре вра ща ют ся в «…по тре би тель скую эли ту (группу “а”), служащую моделью для большинства, ещё не располагающего соответствующим роскошным набором (спортивный автомобиль, стереосистема, вторичная резиденция), без которого нет европейца, достойного это го име ни» [2, с. 98].
представители современного общества интегрированы в международные информационные и финансовые потоки, а «массовая культура выводит индивида “за флажки” социокультурных предписаний и запретов и признает право за индивидом на любую форму самовыражения, соответствующую его иден тич но сти» [6 с. 25]. штам пом ста ло восприятие человеком себя как уникальной личности. вопрос заключается в способах проявления этой уникальности. ведь если для самостоятельных поступков и суждений нет культурного основания, они, чаще всего, обора чи ва ют ся ни ги лиз мом.
парадоксально то, что в хх веке благополучие стало вызывать отвращение к жизни, свя зан ное «с жа ж дой доб ро воль но го оди ча-ния, порывами бессмысленного насилия, различными проявлениями социальной истерии, которые уже примелькались и кажутся даже нормальными признаками современной культуры» [5, с. 258]. психологи подтверждают, что безнаказанность индивида в толпе означает полную или частичную утрату личностной идентичности, которая вытесняется осознанием групповой принадлежности. именно хх век породил новое явление сознательного отказа от ответственности, когда через девиантное по ве де ние «внут ри» мас сы наш со вре мен-ник хочет отдаваться низменным порывам.
другая форма — нигилистическое, безнаказанное поругание всего: классики, всего высокого, вплоть до идеалов истины, добра и кра со ты. «на этом фо не ин тел лек ту ал-космополит, оторванный от родины, традиционной и классической культуры, свободно манипулирует фрагментами утраченного, стирая грани между природой и богом, человеком и животным, болью и наслаждением, добром и злом. такая “игра в бисер” выглядит как выражение предельной свободы, путь к которой прокладывает постмодернизм» [7, с. 62]. убеждённость каждого в том, что у него есть право голоса, — один из итогов борьбы за демократию. но в духовной культуре это даёт неожиданный результат, оборачиваясь нигилизмом и релятивизмом, когда в науке, фило-со фии, ис кус ст ве идёт борь ба с «ре прес сив но-стью» ка но нов.
в итоге, в сегодняшнем обществе создаётся лишь иллюзия свободы. у человека появляется свобода выбора, в то время как этот выбор уже сделан и предложен через механизмы массовой культуры — информационную ин ду ст рию и ин ду ст рию до су га. у «сред не го» человека даже возникает иллюзия сотворчества, которую он обретает посредством идентификации себя с элитой. Элита в этом случае прямо влияет, но масса косвенно определяет. и таковы два способа проявления субъектности в массовом обществе, которое нуждается в качественном изменении не только образовательных, но и социально-экономических ос-но ва ний.
Массовая культура способна приспосабливается к новым технологическим веяниям, включать их в свою жизнедеятельность.
без анализа адаптационных механизмов массовой культуры, её субъектов и способов их превратной самоидентификации сложно определить адекватный выход за её пределы. постиндустриальное общество должно, пре- жде всего, выйти за пределы тотальных рыночных отношений, чтобы развитие способностей не подменялось расширением потребностей, порождающим суррогаты творческого са мо вы ра же ния субъ ек та.
Список литературы О суррогатных формах самоидентификации субъектов массовой культуры
- Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: опыт социального прогнозирования / пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцева. Москва: Academia, 2004. 783, [3] с. портр.
- Бодрийяр Ж. Общество потребления: его мифы и структуры / [пер. с фр., послесл. и примеч. Е. А. Самарской]. Москва: Республика: Культурная революция, 2006. 268, [1] с. ил. (Мыслители XX века).
- Тессе Г. Степной волк. Игра в бисер. Паломничество в Страну Востока / [пер. с нем. С. Апта]. Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2004. 603, [2] с. (Зарубежная классика. XX век).
- Достоевский Ф. М. Записки из подполья // Собрание сочинений: в 15 томах. Москва: Наука, 1988. Т. 4.
- Лифшиц М. А. Собрание сочинений: в 3 томах. Москва: Изобразительное искусство, 1984. Т. 1. 431 с.