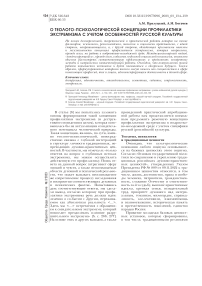О теолого-психологической концепции профилактики экстремизма с учетом особенностей русской культуры
Автор: Прилуцкий А.М., Богачев А.М.
Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana
Рубрика: Ценностный опыт
Статья в выпуске: 3 (68), 2023 года.
Бесплатный доступ
На основе долговременной, теоретической и практической работы авторов на стыке философии, психологии, религиоведения, теологии и социологии представлена, с одной стороны, напрашивающаяся, а, с другой стороны, обладающая признаками новизны и эксклюзивности концепция профилактики экстремизма, которая направлена, прежде всего, на работу в подростково-молодежной среде. Междисциплинарный подход, «конденсирующийся», прежде всего, в области глубинной социальной психологии, позволяет объемно рассмотреть соответствующую проблематику и предложить конкретные методы и направления соответствующей работы. Очевидно, что актуальность такой работы повышается постоянно и будет повышаться в обозримом будущем. Таким образом, сформулированные авторами тезисы могут помочь как специалистам в сфере помогающих профессий, так и лицам, администрирующим деятельность в данной сфере.
Деструкция, идентичность, отождествление, семиотика, событие, сопричастность, экстремизм
Короткий адрес: https://sciup.org/140303310
IDR: 140303310 | УДК: 316.642 | DOI: 10.53115/19975996_2023_03_134-139
Текст научной статьи О теолого-психологической концепции профилактики экстремизма с учетом особенностей русской культуры
Общество. Среда. Развитие № 3’2023
В статье [6] мы попытались заложить основы формирования такой концепции профилактики экстремизма (и деструктивного поведения в целом), которая основывалась бы на актуализации созидательного потенциала человеческой природы. Такая концепция, являясь, по сути, именно теолого-психологической, непосредственно связана с глубокой интеграцией в структуру личности традиционных, непреходящих духовно-нравственных ценностей. В частности, мы отмечали: «только ответив на вопрос о глубинных истоках экстремизма, мы можем осуществлять действенную его профилактику. Поиск ответа на данный вопрос затрагивает сферу эмоций и чувств, а также неосознаваемые области духовной и психической реальности, что может вызывать неосознаваемое же сопротивление процессу исследования и восприятия соответствующих духовных и психических фактов». Попытавшись дать соответствующие ответы, мы сделали вывод, согласно которому при профилактике экстремизма речь должна идти: «именно о со-бытии с Другим, переживаемом как абсолютная реальность <…>. Здесь мы <…> встречаемся с обращением к созидательному экстремуму, который позволяет преодолевать влияние разрушительного экстремума» [6, с. 268, 277]. На основе этих и других выводов, а также проведенной практической апробацион-ной работы нам представляется возможным предложить рамочную концепцию профилактики экстремизма в подростково-молодежной среде с учетом специфики русской (российской) культуры.
Теология, психология и традиционные ценности
Очевидно, что культурологические основания любого социума основываются на базовых ценностях этого социума. Согласно «Основам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», утвержденных Указом Президента РФ № 809 от 09.11.2022 к традиционным ценностям относятся, в том числе, жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.
Привитие молодежи базовых ценностных установок, которые сформированы, в том числе, традиционными религиями в ходе истории развития Российского государства, предполагает опору на теоло -гию и психологию [6; 7; 11]. В противном случае мы, как и было предсказано, сталкиваемся с серьезными проблемами в плане прорыва деструкции в тех или иных поведенческих актах [6; 9; 12]. Как отмечают А.В. Воронцов с соавторами, «современные подростки остро нуждаются в работающих системах символов, обращающих их к созидательным ценностям. Такие системы символов могут дать только традиционные культуры народов России и подлинные проявления патриотизма, отсылающие к корневым основам социального бытия (пример – акция “Бессмертный полк”), а, значит, и образы настоящих героев, причем не только прошлого, но и настоящего» [9, с. 143].
Практическое развитие и совершенствование форм и методов сохранения этих ценностей могут осуществляться на основе практико-ориентированного и теолого-психологического подхода, позволяющего актуализировать духовное и душевное наполнение того императива, который в традиционном православном христианском учении выражен в заповеди: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя», и формировать исходящие из этой заповеди созидательные установки личности. Обращение к данной заповеди в рамках экзистенциального подхода в психологической и воспитательной деятельности подразумевает использование соответствующих «мыслительных экспериментов», визуализаций, метафор, сравнений, игротехник, лекций, семинаров, уроков и программ развития личности и т.д.
Важнейшим аспектом такой работы является обращение к семиотике сопричастности, которая прямо отсылает нас к сути традиционных вечных ценностей, которые, например, в христианстве выражаются в императивах любви к Богу и ближнему.
Как мы отмечали в одной из предыдущих работ, в противовес и «шизоанализу» (как, например, теории объектных отношений) с его акцентом на разрушительных психотических структурах, и классическому психоанализу с его акцентом на «зрелом эго» возникает практика учения о первичности бытия Слова. Этому учению в полной мере родственна отечественная культура, включая русские народные сказки, основная идея которых – преобладание чувства души над холодной логикой (по сути, об этом же, но в искаженном ключе поют представители современ- ного русского рэпа и русского рока: послания, заложенные в песнях, можно и нужно дешифровать, чтобы получить доступ к внутреннему миру многих современных молодых людей). Тогда глубинный высший смысл побеждает искаженные смыслы, подлинная справедливость преобладает над искаженной справедливостью (и бессильными становятся такие идеологии, как, например, идеология запрещенной в РФ ИГИЛ) [6, с. 278].
Семиотика сопричастности
На символическом уровне сопричастность выступает как семиотическое отождествление личности с образом другого человека, причем не просто отождествление, а отождествление в режиме трансцен-денции, события. Как отмечает один из авторов настоящей работы, «человеческое “я” в буквальном смысле строится и состоит из образов, значимых для нас Других, любимых нами и любящих нас людей. Каждый такой образ – это часть фундамента нашего внутреннего дома, который выстраивается еще в утробе матери (первого Другого в этом мире) и в младенчестве <…>. Парадокс и одновременно закон психической реальности можно сформулировать так: «я могу чувствовать и ощущать, что “я – это я”, а “ты – это ты”, когда я чувствую и ощущаю, что “я – это ты”, а “ты – это я”» (парадокс заключается и в том, что в “недифференцированном единстве” уже существует “я”, которое затем должно родиться) <…>. Можно предложить и следующую формулировку: наше “я” в своей глубинной основе (self) есть, по сути, наше взаимодействие с Другим. Отметим, что здесь лежит и основание нравственной основы психической реальности» [4, с. 25, 28, 30]. Полагаем, что в основе подобного соотнесения находится формирование сложных семиотических объектов, совмещающих символическую и метафорическую номинацию. В результате этого процесса классическая схема противопоставления по паттерну «свой – чужой» перестает работать. Но для того, чтобы разобраться с семиотикой сопричастного, вначале необходимо проанализировать символическую специфику противопоставления по паттерну «мы и они», или «свой – чужой».
Со структурной точки зрения, подобное противопоставление восходит к бинарным оппозициям мифологического сознания, подробно разобранным К. Леви-Строссом, и по своей сути является одной из базовых установок мифологиче-
Общество
ского мировосприятия. Образ «чужого» был и остается исключительно продуктивным в плане развертывания дискурса социального мифа, причем мифа, перлоку-тивный потенциал которого реализуется через модальности страха и ненависти.
Как справедливо отметил профессор А.Ю. Григоренко, для классической модели подобного противопоставления характерна демонизация типичного «чужого», что приводит к различным формам дискредитации «чужого», провоцирует радикализм и экстремизм [10]. Принцип бинарных оппозиций действует и в этом случае:
демонизации «чужих» соответствует символическая идеализация «своих». Формируются дискурсы паразитарной семиотики: идеализация «своих» никогда не будет завершена без демонизации «чужих», а сам факт их противопоставления становится мощным инструментом конструирования мифологем.
При этом именно инаковость «чужого», которая сразу бросается в глаза (чужих можно узнать с первого взгляда) [10], формирует его семиотическое восприятие: именно отличие станет ядром значения, которое отчетливо проявляется на категориальном и гиперкатегориальном уровнях. Чужаков не любят и боятся, агрессия в их адрес может восприниматься массовым сознанием как нечто понят-
Общество. Среда. Развитие № 3’2023
ное и оправданное. Очевидно, что в рамках подобного мировозрения и шире – мировосприятия – никакая сопричастность «чужому» невозможна: для нее нет никаких условий, поскольку используется исключительно «оптика», направленная на поиск отличий.
Отметим, что на категориальном уровне «чужой» воспринимается как некто, видимым образом от меня отличающийся, а на гиперкатегориальном – как бытие, обладающее иной онтологичекой природой. В этом отношении – идеальный «чужой» – это фантастический монстр-песьеглавец или акефал позднего античного мифа.
Причина негативно-враждебного восприятия «чужого», проявляющаяся в ксенофобиях архаического мировосприятия, коренится не только в страхах перед всем новым (в рамках подобного мировосприятия любые изменения это всегда изменения в худшую сторону), но и в глубинных архетипах сознания. По сути дела, речь идет о «включении» самых деструктивных «защитных механизмов» психики [2; 4]. При потере чувства сопричастности «архетипический путь психического развития в контексте формирования идентичности современных российских юношей и девушек включает в себя этап исполнения роли жертвы (и палача), падающей у ног Царицы плодородия (или кровожадного хтонического царька, убивающего и убиваемого у тех же ног) [12, с. 89]. Современная российская молодежь во многом находится «в тупике, когда с одной стороны – тревога ложного слияния и воображаемая структура иллюзорного присутствия Другого, подкрепленная искаженной символикой через отрицание, непереживание реальности (чувств), а с «другой» стороны – хаос чувств, которые «некому» переживать, логика которого ведет к пустоте, “концентрирующейся” в эго» [12, с. 90]. Инаковость чужого, препятствующая положительному восприятию последнего, часто выступает в качестве триггера агрессии и конфликтогенного фактора. Эти же причины на уровне установок культуры повседневности препятствуют выработке симпатий: если доброжелательное отношение к «своим», «похожим», семиотически выступает как символическая проекция любви к себе, то отрицательное отношение к «иному», «непохожему» может трансформироваться в ненависть к врагу.
Акт экстремистского поведения в этом случае воспринимается как действие не только оправданное, но и якобы безусловно необходимое. Символически маркированный комплексом «инаковости» чужой становится реальным «врагом». Причина этой трансформации, как нам представляется, тоже коренится в недрах архаического мировосприятия. Как было доказано исследователями, для архаического сознания характерно представление об ограниченности того, что в общем смысле можно определить как «блага» [14]. В ситуации, когда «свои» и «чужие» претендуют на одни и те же априорно ограниченные ресурсы, в рамках архаического общества возникает конкурентная ситуация, которая часто или разрешается через инверсивное снятие конфликта («чужой» утрачивает маркеры отличий и символически включается в число «своих», т.е. запускаются интеграционные механизмы), или же конфликт переходит в острую фазу.
Как мы уже отмечали выше, экстремистское поведение на уровне глубинных поведенческих стереотипов часто коренится в архетипике архаического мировосприятия, дискурс экстремизма поэтому часто бывает подчеркнуто мифологиче- ским, что нередко проявляется в материалах сновидений [1; 5].
Между тем, «…чувство сопричастности Другому (Богу и ближнему), чувство любви представляют собой наивысшую реальность и выражение целостности. Иными словами, согласно психологии пустоты (психоанализу) внутриличностное расщепление преодолевается интеграцией в психическую реальность содержаний, репрезентирующих просто деструкцию, но и собственно пустоту (отсутствие любви и сопричастности). Напротив, в психологии бытия (в том числе христианской психологии) расщепление преодолевается прохождением сквозь пустоту и негативные импульсы при принятии на себя ответственности за слабость перед этими импульсами и пустотой» [11, с. 309].
Для противодействия экстремистскому поведению поэтому целесообразно задействовать семиотические механизмы, позволяющие изменить модальность восприятия «чужого», а именно обеспечивающие метафорическое отождествление себя, своей жизни и личного опыта с потенциальным «чужим». Таким образом, происходит семиотический дрейф по полюсам «чужой – враг» – «чужой – похожий на меня», дающий основание для формирования стратегий инкорпорации. Последняя не предполагает культурную унификацию. Наличие отличий в культурном и поведенческом коде, религиозных предпочтениях и соответствующих им практиках, перестают выступать в качестве маркеров враждебной инаковости. Они становятся фоном, который необхо -дим для раскрытия – дискурсивного и на уровне восприятий – того, что является основанием для метафорического сближения объектов на основании сходств. При этом формируется более высокий уровень идентичности – объединяющий на основе постулированного сходства, близости. (Сфера отличий при этом сохраняется на более низких в плане аксиологии идентичностных уровнях.) Отсюда следует, что нивелирование влияния факторов деструкции возможно за счет «идентификации подростков и молодежи с образами созидательных героев, российское общество, и особенно подростковомолодежный его сегмент, остро нуждается в такой духовно-психологической парадигме, которая позволила бы удовлетворить потребность в высшем смысле и в созидательной идеологии» [12, с. 94].
Опыт использования инструментария семиотики в целях профилактики экстремизма позволяет нам сделать вывод, что основанием для успешной работы является именно идентичностный подход. Профилактика экстремизма в этом случае предполагает аксиологическую трансформацию системы идентичностей: наиболее ценными становятся идентичности, позволяющие сплачивать социум через расширительное понимание категории «свои» (здесь особую значимость приобретают и соответствующие уроки в средних [3] и высших учебных заведениях).
«Свои» – это те, с кем я себя ассоциирую, с кем я осознаю свою символическую общность. В этом случае «свой» представляет собой образ Другого (как иного мира, с которым и в котором возможно со-бытие), и по отношению к возникшей символической (и вполне реальной) общности уже невозможны акты жестокости, деструкции, разрушения.
«Здесь мы вновь приходим к тому факту (как минимум психическому), в соответствии с которым направленное переживание чувства бытия в Другом заложено в человека изначально и имеет своим истоком некое трансцендентное начало. Иное противоречило бы логике бытия, которая дана человеку в его духовной и психической жизни» [11, с. 311].
Практическая реализация принципа сопричастности Другому в контексте профилактики экстремизма
Практическая значимость работы, основанной на понимании семиотики сопричастности в непосредственном «тексте жизни, обусловлена возможностью проявления традиционных ценностей в форме личностных убеждений и в непосредственной “ткани” психической жизни, а также с необходимостью для ряда верующих осознать психологические корреляты и (или) проявления их веры, при том, что такое осознание может послужить повышению уровня понимания феномена веры и потребностей верующих со стороны атеистов и представителей иных вероисповеданий без нарушения принципа свободы совести. Это особенно важно с учетом такого фактора, как “неопределенная религиозность”, который «может говорить о существовании в их психической реальности определенного духовного поиска, который, как минимум на данный момент, не соответствует форме известных респонденту религиозных традиций <…>. Вышесказанное означает, что при взаимодействии (в том числе дидактическом и воспитательном) с совре-
Общество
менной молодежью ключевым “мостиком” к ней является пространство этических ценностей, которые могут быть связаны и со скрытым духовным поиском» [13].
В результате создается проявляющаяся в убеждениях личности ценностная осно-
Общество. Среда. Развитие № 3’2023
ва, позволяющая индивидууму конструктивно взаимодействовать в социуме и сопротивляться воздействиям, связанным с деструктивной, в том числе экстремистской деятельностью, что в полной мере соответствуют целям Стратегии национальной безопасности Российской Федерации от 02.07.2022 г. и Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года от 29.05.2020 г.
Другими словами, профилактика экстремизма должна основываться на актуализации таких психологических установок и семантических цепочек, которые позволяют расширять поле «своих» (поле взаимодействия с Другим) и выходить за пределы порочного круга поиска образа врага (поле злокачественной войны с «чужим»). Особенно это важно, по нашему мнению, с учетом фактора СВО и необходимости формирования общероссийской (русской суперэтнической) гражданской идентичности [7].
Теолого-психологическая Концепция профилактики экстремизма в сфере образования и молодежной среде, таким образом, подразумевает системную:
-
а) теоретико-прикладную работу на стыке современных теологии образования, педагогики и психологии по разработке методических основ формирования убеждений, основанных на традиционных российских духовно-нравственных ценностях, у российских детей и молодежи;
-
б) методическую работу по определению конкретных методик, технологий и приемов формирования убеждений, основанных на традиционных российских духовно-нравственных ценностях, у российских детей и молодежи;
-
в) прикладную деятельность специалистов в области практической теологии, психологии и педагогики по формированию
убеждений, основанных на традиционных российских духовно-нравственных ценностях, у российских детей и молодежи;
-
г) повышение квалификации специалистов в области практической теологии, психологии и педагогики, работающих в области профилактики экстремизма в сфере образования и молодежной среде;
-
д) экспертную деятельность в области прояснения сущности экстремизма и конкретных экстремистских действий.
Вариантами форм соответствующей работы могут быть адаптационно-профилактические встречи, специальные занятия по развитию личности для студентов, в том числе иностранных, занятия в рамках проекта «Разговоры о важном», уроки психологии, уроки дружбы, «классные часы», индивидуальные и групповые занятия с детьми и молодежью, иные воспитательные мероприятия, научные и научноприкладные форумы, экспертные работы, повышение квалификации и (или) переподготовка специалистов, просветительские лекции и беседы, психологическое семинары и тренинги и т.д., причем в самых разных областях, включая и такую сферу, как ФСИН, где в рамках принципа индивидуализации может и должна воплощаться в жизнь концепция строгой заботы [8].
Выводы
Итак, на наш взгляд, лучшей формой профилактики экстремизма с учетом особенностей отечественной (русской, российской) культуры является обращение к трансцедентальным сферам психической реальности и к духовным основаниям человеческого бытия. Прикладные возможности такой профилактики лежат именно на «стыке» духовной (в том числе религиозной) работы и практической психологии, где открывается перспектива очищения и структурирования «теневой» энергии. Таким образом, в реальной человеческой деятельности может раскрыться глубинная семиотика сопричастности, а это – залог устойчиво созидательного развития личности и защиты о деструкции.
Список литературы О теолого-психологической концепции профилактики экстремизма с учетом особенностей русской культуры
- Богачев А.М. О некоторых аспектах практической работы со сновидениями // Психология и психотехника. – 2020, № 1. – С. 54–67. – DOI 10.7256/2454-0722.2020.1.32332.
- Богачев А.М. Профилактика экстремизма и защитные механизмы психики // Профилактика Экстремизма в системе образования: сборник материалов Центра профилактики религиозного и этнического экстремизма в образовательных организациях Российской Федерации / Министерство просвещения Российской Федерации, Московский педагогический государственный университет. Том № 2. – М.: Московский педагогический государственный университет, 2021. – С. 36–39.
- Богачев А.М., Межерицкая А.М., Селюнина М.А. Психолого-педагогические особенности рассмотрения некоторых философских вопросов в рамках преподавания ОРКСЭ // Бюллетень Центра этнорелигиозных исследований: коллективная монография по материалам Международной научной конференции «Традиционные религии за сильную Россию: религия и политика в многополярном мире». Том № 1–2 (11–12). – СПб.: Центр этнорелигиозных исследований, 2019. – С. 76–88.
- Богачев А.М. Путь к Другому. О некоторых закономерностях практической психологии: монография. – 2-е издание, исправленное и дополненное. – СПб.: Астерион, 2019. – 221 с.
- Богачев А.М. Фильмы ужасов и ночные кошмары: некоторые аспекты психологического анализа явлений // Психология и психотехника. – 2019, № 4. – С. 39–49. – DOI 10.7256/2454-0722.2019.4.31301.
- Богачев А.М., Прилуцкий А.М., Теплых Г.И. Экстремистское поведение как «акт коммуникации»: теолого-психологический анализ // Вопросы теологии. – 2021. Т. 3, № 2. – С. 267–281. – DOI 10.21638/spbu28.2021.209.
- Богачев А.М., Теплых Г.И., Кавчук П.Н. Формирование общероссийской гражданской идентичности на освобожденных в ходе СВО территориях: риски и перспективы // Психология и психотехника. – 2023, № 3. – С. 44–52. DOI: 10.7256/2454-0722.2023.3.40634. – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=40634
- Богачев А.М., Ломонос А.А., Боброва Н.В. «Строгая забота» как основа воспитательной и психокоррекционной деятельности в учреждениях ФСИН // Педагогика и просвещение. – 2023, № 1. – С. 1–16. – DOI: 10.7256/2454-0676.2023.1.38849. – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=38849
- Воронцов А.В., Прилуцкий А.М., Богачев А.М. Трагедия в Керчи: опыт социально-психологического анализа предпосылок // Психопедагогика в правоохранительных органах. Т. 24. – 2019, № 2 (77). – С. 138–144. – DOI 10.24411/1999-6241-2019-12002.
- Григоренко А.Ю. «Свой – Чужой» в истории религии // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2012, № 146. – С. 41–47.
- Прилуцкий А.М., Богачев А.М. Психолого-теологические аспекты подготовки к таинствам покаяния и причащения в православии // Вопросы теологии. Т. 2. – 2020, № 2. – С. 297–314. – DOI 10.21638/spbu28.2020.208.
- Воронцов А.В., Прилуцкий А.М., Богачев А.М., Теплых Г.И. Психосемиотика деструктивного поведения: от убийства символического к убийству реальному // Общество. Среда. Развитие. – 2022, № 1. – С. 86–96. – DOI 10.53115/19975996_2022_01_086-096.
- Богачев А.М., Блинкова А.О., Прилуцкий А.М. [и др.]. Религиозные, этические и бытовые категории в бессознательной области психической реальности современной российской молодежи: попытка сравнительного анализа // Философия и культура. – 2020, № 8. – С. 53–67. – DOI 10.7256/2454-0757.2020.8.33359.
- Фостер Д. Крестьянское общество и ограниченное благо // Фольклор и антропология города. – 2020, вып. III (1–2). – С. 14–36.