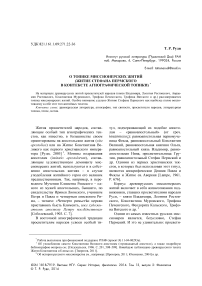О топике миссионерских житий (житие Стефана Пермского в контексте агиографической топики)
Автор: Руди Татьяна Робертовна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.13, 2014 года.
Бесплатный доступ
На материале древнерусских житий просветителей народов (князя Владимира, Леонтия Ростовского, Авраамия Ростовского, Константина Муромского, Трифона Печенгского, Трифона Вятского и др.) рассматривается топика миссионерских житий. Особое внимание уделено Житию Стефана Пермского как наиболее полно воплотившему в себе этот тип житийных текстов.
Древнерусская литература, агиография, тип святости, просветители народов, литературная топика, топос, мотив
Короткий адрес: https://sciup.org/147219006
IDR: 147219006
Текст научной статьи О топике миссионерских житий (житие Стефана Пермского в контексте агиографической топики)
Жития просветителей народов, составляющие особый тип агиографических текстов, как известно, в большинстве своем ориентированы на апостольские жития ( vita apostolica ) или на Житие Константина Великого как первого христианского императора [Руди, 2005] 1. Мотивы подражания апостолам ( imitatio apostolorum ), составляющие художественную доминанту миссионерских житий, используются и в собственно апостольских житиях – в случае уподобления житийного героя его великим предшественникам. Так, например, в переводном Мучении Климента Римского – одного из мужей апостольских, бывшего, по свидетельству Иринея Лионского, учеником Петра и Павла и четвертым епископом Рима, – читаем: «Четверто римьстѣи церкви приставникъ бысть Климентъ, иже художь-ствомъ апостолу Петру послѣдьствова » [Соболевский, 1903. С. 7].
В восточной агиографической традиции просветителям народов усвоен особый ти- тул, подчеркивающий их подобие апостолам – «равноапостольный» (от греч. ἰσαπόστολος): равноапостольная первомученица Фекла, равноапостольный Константин Великий, равноапостольная княгиня Ольга, равноапостольный князь Владимир, равноапостольная Нина, просветительница Грузии, равноапостольный Стефан Пермский и др. Одними из первых христианских текстов, в которых был использован этот титул, являются апокрифические Деяния Павла и Феклы и Житие св. Аверкия [Lampe, 1961. P. 676].
Корпус древнерусских миссионерских житий включает в себя жизнеописания подвижников, ставших просветителями народов Руси, – князя Владимира, Леонтия Ростовского, Константина Муромского, Трифона Печенгского, Феодорита Кольского, Трифона Вятского и др. 2
Одним из самых известных русских миссионеров является, безусловно, Стефан Пермский. И это не удивительно: просвети-
* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 11-04-00293а).
тель Пермской земли не только привел к Христовой вере язычников-зырян, но и создал письменность этого прежде бесписьменного народа. Эта особенность служения Стефана, ставшая важнейшей составляющей его духовного подвига, нашла отражение уже в заглавии его Жития, написанного современником святого, известным русским агиографом Епифанием Премудрым: «Слово о житии и учении святаго отца нашего Стефана, бывшаго в Перми епископа» 3.
Как следует из текста Слова, Епифаний был близко знаком со Стефаном и, по-видимому, жил одновременно с ним в ростовском монастыре св. Григория Богослова – так называемом «Братском Затворе» [Дробленкова, Прохоров, 1988. С. 211]. Узнав о смерти святителя, последовавшей в 1396 г., Епифаний начал повсюду собирать сведения о нем, значительно расширив их собственными воспоминаниями. По мнению исследователей, Житие Стефана Пермского было создано либо в самом конце XIV в., либо в начале XV в. [Прохоров, 1995. С. 41]. Этот текст, представляющий собой один из наиболее ярких памятников русской агиографии, является одновременно и ценнейшим историческим источником: бόльшая часть сведений о жизни и миссионерской деятельности Стефана Пермского известна сегодня исключительно из сочинения Епи-фания.
Попытаемся кратко изложить жизненный путь Стефана, каким он предстает в описании его агиографа. Будущий просветитель коми-зырян родился предположительно в 40-х гг. XIV в. на Русском Севере, в Великом Устюге [Красов, 1896. С. 153–154; Прохоров, 1995. С. 5]. Житие другого севернорусского святого, юродивого Прокопия Устюжского, сохранило имена родителей будущего святителя – клирика устюжской соборной церкви Пресвятой Богородицы Симеона и жены его Марии [Чернецов, 1995. С. 48] 4. Будучи семи лет отдан в уче- ние, Стефан очень скоро усвоил грамоту и уже в отрочестве служил чтецом канонов в церкви, в которой подвизался его отец.
В возрасте не старше 25 лет Стефан принял постриг в уже упоминавшемся ростовском монастыре св. Григория Богослова [Прохоров, 1989. С. 412] 5. Этот монастырь, славившийся своей богатой библиотекой, был одним из важнейших книжных и образовательных центров Древней Руси. Здесь будущий святитель не только занимался перепиской книг, но и обучился греческому языку. Г. М. Прохоров пишет об этом периоде жизни святого: «Через пять лет пребывания в монастыре Стефан был рукоположен в дьякона, а перед началом его проповеди среди зырян, в 1379 г., местоблюститель митрополичьего престола Коломенский епископ Герасим возвел его в Москве в сан священника» [Там же].
Еще во время пребывания в Братском Затворе Стефан принял решение посвятить свою жизнь обращению в христианство языческого зырянского народа, населявшего обширные территории на северо-востоке России, которые соседствовали с его родными устюжскими землями 6. Для этого он в совершенстве изучил зырянский язык, который, возможно, до некоторой степени был знаком ему еще с детства, и приблизительно в 1372–1375 гг. создал пермскую азбуку, ориентируясь на принципы построения греческого и славянского алфавитов. Примечательно при этом, что, создавая зырянские буквы, креститель Перми, по-видимому, использовал существовавшие к тому времени у этого народа так называемые тамги или пасы – древнейшие знаки семейной (а ранее – родовой) собственности, вырезавшиеся на деревянных палочках или бере- деда Стефана Пермского по линии матери – устюжского кузнеца («железоковача») Ивана Секирина (БАН. Собр. М. И. Чуванова. № 474. Л. 5 – 5 об.). См. об этом: [Власов, 1995. С. 19–34; 1996а. С. 12; 2010. С. 564; Прохоров, 1995. С. 4].
сте [Королев, Савельева, 1996; Прохоров, 1995. С. 14–15].
Существуют различные точки зрения на то, когда и каким образом будущий миссионер мог обучиться сложному зырянскому языку, относящемуся к финно-угорской языковой семье. Некоторые исследователи допускают, что этот язык и говорящий на нем народ не были вполне чужими Стефану, поскольку он сам по отцовской или материнской линии мог быть зырянином [Лыткин, 1889. С. 5]. Сохранилось, в частности, предание, согласно которому дедом Стефана по матери был крещеный зырянин по имени Дзебас [Смоленцев, 1993. С. 19; Прохоров, 1995. С. 5–6]. Однако ни в Житии, ни в других письменных источниках таких сведений не зафиксировано: напротив, Епифа-ний вполне определенно именует пермского просветителя «русином»: « Сий преподобный отець нашь Стефанъ бѣ убо родом русинъ , от языка словѣнска, от страны полунощныя, глаголемыя Двинскыа, от града, нарицаема-го Устьюга…» [Житие Стефана Пермского, 1995. С. 56]. Думается, больше оснований имеет другая гипотеза, согласно которой Стефан мог научиться языку коми еще в детстве – в родном Устюге, куда зыряне часто приезжали для продажи своих охотничьих трофеев [Шестаков, 1868. С. 36; Чернецов, 1995. С. 49–50]. По мнению новейших исследователей, «такое предположение вполне согласуется с современной археолого-этнографической интерпретацией средневековой этнической истории пермян, предков современных коми» [Несанелис, 2001. С. 4–5] 7. Как бы то ни было, к началу своей миссии Стефан не только создал зырянскую азбуку, но и перевел на язык коми основные тексты и книги, необходимые для совершения богослужений.
Исследователи отмечают феноменальную лингвистическую одаренность Стефана, которая выразилась в высоком качестве сделанных им переводов, что, в свою очередь, свидетельствует об абсолютном владении им языком просвещаемого народа. Так, Стефан стремился для каждого переводимого им слова найти эквивалент в зырянском языке для того, чтобы сделать переводимый текст максимально понятным и доступным. Он старался переводить даже те понятия, которые традиционно оставлялись без перевода: «апостол», «ангел», «осанна», «Саваоф», а в некоторых случаях – и «аминь» [Чернецов, 1995. С. 64–66].
Итак, во второй половине 1379 г., получив благословение коломенского епископа Герасима и взяв с собой все необходимое для миссионерской деятельности – антиминсы, миро, реликварии с частицами мощей святых и, как сказано в Житии, «прочая потребная, яже суть надобна на освященье святѣй церкви» [Житие Стефана Пермского, 1995. С. 82], Стефан отправился проповедовать христианство в «землю Пермьскую» – т. е. на северо-восток России, к берегам рек Вычегды, Выми и Сысолы. Исходным пунктом его миссии стало селение Пырас (ныне – г. Котлас Архангельской области): здесь прозвучала первая проповедь Стефана. Затем он направился в глубь пермских пределов, в селение Усть-Вымь, в котором находилось крупнейшее языческое святилище зырян. Пройдя по пермским землям в общей сложности не менее тысячи километров [Прохоров, 1989. С. 412], Стефан всюду проповедовал веру Христову, обращая в христианство языческое население этого края, основывал школы и обучал зырян но-восозданной грамоте, разрушал кумирни и святилища, устанавливая на их месте кресты, строил церкви и часовни. Так, в Усть-Выми он уничтожил знаменитую пермскую кумирницу – так называемую прокудливую березу 8, которой поклонялись зыряне, и построил на ее месте Архангельскую церковь. Этот эпизод нашел особо яркое отражение в сохранившихся устных преданиях о пермском миссионере: согласно им, Стефан рубил «безбожную кумирницу» три дня, при этом из-под корней березы текли ручьи смрадной крови и доносились стоны укрывавшихся в ней бесов: «Стефане, Стефане! Зачем нас гонишь? Сие есть наше древнее пребывание» [История Пермской епархии…, 1996. С. 108–109] 9.
Миссия Стефана Пермского была весьма успешной и плодотворной. Этому, по мнению исследователей, могло способствовать то обстоятельство, что в архаических верованиях зырян, как и в других языческих ре- лигиях, возможно, присутствовали следы монотеизма. Так, еще в конце XIX в. протоиерей Евгений Попов писал: «Зыряне… верили в духов, добрых и злых. При этом они частию выражали верование и в единого Бога, потому что об одном из этих духов рассуждали, что он сотворил мир (этого великого Духа, живущего на небесах, они называли вообще именем Ен)» [Попов, 1885. С. 24–25] 10. В качестве другого возможного объяснения успешности миссии Стефана Пермского высказывают предположение о том, что «проникновение на территорию предков коми христианского культа и связанных с ним представлений наметилось, возможно, еще до начала миссионерской деятельности Стефана» [Там же. С. 7]. Обоснованием этой гипотезы служат некоторые археологические свидетельства, в частности, обнаруженный в ходе недавних раскопок Пожегского городища, расположенного на левом берегу Выми, нательный крест, аналогичный южнорусским крестам, датирующимся второй половиной XII – первой половиной XIII в. [Там же. С. 7–8].
Говоря об успехах апостольского служения Стефана Пермского, необходимо отметить, что его проповедь, безусловно, встречала и неизбежное в таких случаях сопротивление со стороны местного языческого населения. Епифаний Премудрый так описывает недовольство идолопоклонни-ков-пермян, вызванное появлением миссио-нера-москвитина: «Исперва убо сий Стефан много зла пострада от невѣрных пермян от некрещеных: озлобленье, роптанье, хухна-нье, хуленье, укоренье, уничиженье, доса-женье, поношенье и пакость, овогда убо прещенье. Смертью прещаху ему, овогда же убити его хотяху» [Житие Стефана Пермского…, 1995. С. 86]. Далее агиограф описывает, как множество разъяренных язычников, принеся вязанки сухой соломы и окружив Стефана, «въсхотѣша хотѣньемъ створити запаленье рабу Божию и сим умыслиша огнем немилостивно въ смерть вогнати его» [Там же]. О том, что такие угрозы были вполне реальными, может свидетельствовать то обстоятельство, что два из трех преемников Стефана по епископской кафедре, Герасим и Питирим, которые в XV в. продолжили его дело в землях Пер- ми Великой, приняли мученическую кончину 11.
Самым ярким эпизодом Жития является описание прения Стефана с языческим волхвом Памом, которое как в литературной, так и в исторической действительности во многом, по-видимому, определило судьбу христианской миссии в Пермской земле. Епифаний называет волхва Пама «сотником», что, возможно, означает, что тот объединял в одном лице местную светскую и духовную власть, т. е. был одновременно племенным князьком и шаманом 12. Следует отметить, что, описывая духовное состязание Стефана с волхвом, Епифаний Премудрый осознанно выходит за рамки житийного канона, предписывавшего изображать противника миссионера лишь в черных красках, как человека примитивного и недалекого. Под пером агиографа оппонент Стефана предстает как достойный противник, личность сильная и неоднозначная, наделенная вполне конкретными психологическими характеристиками 13.
Прение о вере Стефана и Пама-сотника закончилось однозначной победой первокрестителя зырян: испугавшись условий последнего состязания (противники должны были пройти испытание огнем и водой), Пам вынужден был отступить и навсегда покинул Пермскую землю. По преданию, он со всем своим родом ушел в Сибирь, где на берегу реки Оби основал поселение Ал-тым 14.
Епифаний Премудрый, будучи в первую очередь агиографом, а затем уже историком, не фиксирует подробно этапов миссии Стефана Пермского 15, однако на основании его Жития можно с уверенностью говорить о том, что уже через три года после начала проповеди в Пермской земле число обращенных зырян достигло значительных размеров, а новосозданная церковь окрепла и разрослась. Судить об этом можо на том основании, что зимой 1383/84 гг. Стефан направился в Москву, чтобы просить о по- ставлении епископа в новую христианскую землю. Правившие в то время великий князь Дмитрий Донской и митрополит Пимен, оценив духовный подвиг Стефана, который, говоря словами Епифания, «апостольское дело начал и совершил» 16, сочли, что именно он должен стать первым епископом в крещенной им земле. Таким образом, вернувшись в Пермскую землю, Стефан продолжил там свое служение уже в святительском сане. Это служение длилось еще 12 лет – до самой смерти зырянского апостола. Поехав весной 1396 г. для решения неких церковных вопросов в Москву, Стефан неожиданно заболел там и умер. Случилось это 26 апреля, в день памяти святого Василия, епископа Амасийского, на праздник Преполовения Пасхи. Похоронили Стефана там же, в Москве, в кремлевском соборе Спаса-на-Бору.
Таковы в общих чертах жизненный путь и духовный подвиг святителя Стефана Пермского, изложенные в его житии. Епи-фаний Премудрый, как и большинство русских агиографов, ориентировался в своем творчестве на византийские и южнославянские образцы. В то же время созданный им текст впоследствии сам стал в значительной степени образцом для создания древнерусских миссионерских житий. Попытаемся теперь в общих чертах выявить те мотивы, которые составляют художественную доминанту – или топику – русских житий крестителей народов. Следует отметить при этом, что миссионерская топика может использоваться не только в жизнеописаниях просветителей народов , но и в святительских житиях , традиционно развивающих тему духовного учительства, – поэтому при выявлении и анализе миссионерских топосов мы будем привлекать и жития церковных иерархов, в которых присутствуют соответствующие мотивы или сюжеты.
В древнерусской агиографической традиции топика миссионерских житий (imita-tio apostolorum или imitatio Constantini) присутствует уже в самых ранних текстах этого типа. Иаков мних, автор одного из древ- нейших памятников древнерусской письменности, «Памяти и похвалы князю русскому Владимиру», излагая во вступлении причины, побудившие его взяться за перо («causae scribendi»), приводит в качестве прецедента, среди прочего, тот факт, что евангелист Лука «написа Дѣяния апостольская», – таким образом, с одной стороны, проводит параллель между деятельностью крестителя Руси и деяниями апостолов, с другой – сопоставляет свой труд с писаниями первых христианских авторов: «Тако же и азъ, худый мнихъ Иаковъ, слышавъ от многыхъ о благовѣрнемъ князѣ Володимери всея Руския земля, о сыну Святославлѣ, и мало събравъ от многыя, добродѣтели его написахъ» [Память и похвала князю русскому Владимиру, 1997. С. 316].
В дальнейшем, на протяжении всего текста, Иаков продолжает выстраивать параллели, призванные удостоверить «подобие» Владимира христианским первокрестителям: узнав о крещении своей бабки Ольги, Владимир « тоя и житие подража , такоже и святыя царици Елены , матере великаго царя Коньстантина, житию ревнуя въ всемъ ». В других случаях подчеркивается подобие русского просветителя самому Константину: «И ты, блаженый княже Во-лодимере, подобно Констянтину Великому дѣло сътвори »; «… подобя ся царемъ свя-тымъ <…> и великому Коньстянтину , иже избраша и изволиша Божий законъ боле всего…»; «… Констянтина , царя великого, перваго царя кристианского, того подражая правовѣрие » и т. д. [Там же. С. 318, 320, 322]. Наконец, автор «Памяти и похвалы» прямо именует князя Владимира апостолом: «А ты, блаженый княже Володимере, бысть апостолъ въ князехъ , всю землю Рускую приведъ къ Богу святымъ крещениемъ» [Там же. С. 320].
Еще более акцентированно звучит идея подобия и даже равенства крестителя Руси Константину Великому в «Слове о Законе и Благодати» митрополита Илариона: « По-добниче великааго Коньстантина , равноум-не , равнохристолюбче , равночестителю служителемь его! » [Слово о Законе и Благодати…, 1997. С. 48]. Позднее неизвестный автор «Похвального слова князю Константину Муромскому», созданного в середине XVI в., использовал оба цитированных текста, создавая образ легендарного крестителя Муромской земли: « Подобниче великаго
Константина и тезоименит тому , равно-умне святому Владимиру , праотцу своему , равночестителю служителемъ его! » [Руди, 2004. С. 335]. Важные для автора идеи тезо-имения и подобия Константина Муромского его предшественникам-«прообразам» он повторяет еще не раз: «К нашему же славному и нарочитому в Русстѣй странѣ граду Мурому посла вѣрнаго своего слугу, от благочестна корене прозябша и богосаждены цвѣти отрастивша, тезоименита великому , равну апостоломъ , первому въ православии возсиявшему греческому царю Константину , – нашего , реку , государя самодержца Константина Светославича , от родства великаго князя Владимира , и двою чадъ его, Михаила и Феодора <…> и поревноваша святымъ апостоломъ и прежним благочес-тивымъ царемъ и княземъ», «…от твоего самоизбраннаго посланника, тезоименита Константину Великому , отрасли и подоб-ника славному Василию , русскому просвѣти-телю ». Наконец, так же, как и автор «Памяти и похвалы князю Владимиру», автор «Похвального слова Константину Муромскому» именует своего героя-миссионера апостолом: «Сим же всѣмъ по Бозѣ намъ виновенъ есть истиннаго винограда Христова воздѣланникъ и превѣчнаго Слова апо-столъ , достовѣрный слуга Христовъ Кон-стантинъ» [Там же. С. 318, 321, 331].
Примечательно, что мотив imitatio apostolorum или imitatio Constantini звучит в Похвале Константину не только в отношении самого просветителя Мурома 17, но переносится и на его сыновей, Михаила и Феодора, которые уподобляются сыновьям князя Владимира, страстотерпцам Борису и Глебу. Так, например, князь Михаил, убитый язычниками, не только именуется автором Похвального слова «подобником святому Глѣбу», но на него переносится и самохарактеристика Глеба из анонимного «Сказания»: «…погребе многострадалное непорочнаго агньца тѣло, лозы неплодныя , класа несозрѣлаго , князя Михаила, предтечи Муромъскаго»; тело же Михаила, выброшенное убийцами за пределы града «звѣ-ремъ и псомъ и птицамъ на снѣдение», подобно телу Глеба, остается нетронутым:
«…но Богу сохраншу своего страстотерпца, ничтоже не прикоснуся телеси, но свѣтя-шеся аки солнце и испущаше изъ себе велие благоюхание» 18.
Епифаний Премудрый уже в предисловии к Житию Стефана, моля Бога о даровании ему благодати «во отверзение уст», именует просветителя зырян «наследником апостолов»: «И молюся Святѣй Троицѣ <...> да ми подасть слово твердо <...> яко да бых възмоглъ поне мало нѣчто написати и по-хвалити добляго Стефана, проповѣдника вѣрѣ, и учителя Перми, и апостоломъ наслѣдника » [Житие Стефана Пермского, 1995. С. 54].
Прямое уподобление подвижника апостолам звучит и в Службе первому русскому митрополиту Михаилу Киевскому: «…в неверные люди прииде яко апостол и первозванного пророчествие соверши» [Спасский, 1951. С. 90].
Автор Жития просветителя лопарей Трифона Печенгского 19 также использует в своем тексте мотив imitatio apostolorum , причем преподобный отец Трифон уподобляется здесь не только благовестникам Христовым, но и самому Христу. Вот как описывает агиограф нападение на Трифона язычников-лопарей: «А иногда на Божия проповѣдника , яко на самого Иисусъ Христа июдеи , тако собравшеся со оружиемъ и дре-колиемъ, глаголюще к себѣ: Пойдемъ , уби-емъ его! <…> Друзии же яко лвы на благовѣстника Христова рыкаху, и яко медвѣди ревуще, и различно страшаще, и зубы скрежетаху, нелѣпо кричаще: Возмемъ и распнем его! » (ср.: Мф. 21: 38; 26:47; Ин. 19: 6, 15) [Калугин, 2009. С. 187–188] 20.
В других эпизодах печенгский миссионер уподобляется апостолам с помощью скрытого параллелизма: так, диалог Трифона с Богом, посылающим его для крещения язычников, строится по аналогии с библейским сюжетом об апостоле Павле: «Святый же, слыша гласъ, убояхся зѣло, глаголя: “ Кто есть , Господи? ” И паки гласъ: “ Азъ есмь Иисусъ , егоже ты в пустыни сей ищеши ”» [Калугин, 2009. С. 183] (ср. Деян. 9: 5: «Рече же: Кто еси, Господи? Господь же рече: Азъ есмь Иисусъ, егоже ты гониши»; ср. также: Деян. 22: 8; 26: 15). Иногда сравнение с апостолами выражено агиографом еще более прямо: «Новопро-свѣщеннии же народи лопарские, от усердия своего от имѣнии своихъ приношаху, сребро и вещи, и яко пред ногами апостолскими , преподобнаго отца Трифона при ногахъ по-лагаху » (ср.: Деян. 4: 35, 37; 5: 2) [Там же. С. 190].
В цитированных фрагментах Жития Трифона Печенгского можно видеть и некоторые другие общие для миссионерских житий мотивы. Так, описание жестоких язычников, пытающихся убить святого, выдержано в устойчивых литературных формулах: «устремишася на святого со оружи-емъ и с дреколиемъ», «яко лвы рыкаху» и т. д. Примечательно, что первая из названных формул, имеющая в своей основе библейскую цитату, восходит к евангельскому сюжету о предательстве Христа Иудой: «И еще ему глаголющу, се, Иуда, единъ от обоюнадесяте, прииде, и съ нимъ народъ многъ со оружиемъ и дрекольми, от архиерей и старецъ людскихъ» (Мф. 26: 47). Эта формула, вошедшая в топику миссионерских житий, присутствует уже в Житии Леонтия Ростовского, одном из древнейших оригинальных русских агиографических текстов. Автор так описывает здесь восстание язычников на верхней Волге, известное в летописях под 1071 г.: «Абие устремиши-ся невѣрнии на святопомазаную его главу, ови со оружиемъ, а друзии с дреколием, яко язычник, святой подвергся жестоким преследованиям; в конце концов язычники забросали его насмерть камнями, после чего один из солдат пронзил его тело под сердце копьем – в подражание прободению под ребро распятого Христа. См.: [Incipit passio…, 1938. P. 471–479; De Sancto Gerhardo…, 1938. P. 480–506]. В иконографии св. Герхард изображается держащим в левой руке пронзенное стрелой сердце. См.: [Lexikon der christlichen Ikonographie, 1990. Bd. 6. S. 396–397].
изгнати из града и убити и́ » [Семенченко, 1989. С. 250].
Под пером Епифания Премудрого в Житии Стефана этот мотив получил распространение и конкретизацию: идолопоклонники-зыряне «со многою яростью и великим гнѣвом и воплем, яко звѣрье дивии , устре-мишася на нь, единаче съ дрекольемъ , дру-зии же от них мнози похватаху топоры , об одну сторону остры , в рукахъ их » [Житие Стефана Пермского, 1995. С. 100]. Вообще, следует отметить, что при всей устойчивости такого рода литературных формул они одновременно способны адаптироваться к потребностям конкретных текстов. Так, в цитированном пассаже из Жития Трифона Печенгского язычники не только, по законам византийской агиографии, «яко лвы ры-каху» на миссионера, но и, в соответствии с севернорусскими реалиями, «яко медвѣди ревуще» [Калугин, 2009. С. 188].
Как правило, впоследствии, когда язычники прозревают и принимают крещение, лицо святого видится им «аки ангелско». Этот топос использован, например, в житиях Леонтия Ростовского, Константина Муромского, Трифона Печенгского и др. Названный мотив – лицо святого сияет как ангельское – относится к топике imitatio angelorum 21, присущей более всего житиям преподобных, однако встречающейся и в житиях подвижников иных чинов святости, в том числе – и просветителей народов 22.
Среди других традиционных топосов житий миссионеров можно назвать мотив прения с волхвом, восходящий к сюжету прения с Симоном-волхвом из апокрифических Деяний Петра и Павла 23: в Житии Стефана Пермского это упоминавшийся сюжет прения Стефана с волхвом Памом, в Житии Трифона Печенгского – описание споров Трифона с местными язычниками-кебунами: «Народ же, омраченный невѣдением, а паче из нихъ кебуны, то есть отлученныя слуги дияволские, пряхуся со праведникомъ Бо-жиимъ и яряхуся, яко звѣри, и неисповѣ-димыя дѣяху ему пакости» [Калугин, 2009. С. 186].
В святительских житиях, в соответствии с конкретными историческими обстоятельствами, место волхва может занимать еретик. Так, например, в Житии Иакова Ростовского читается сюжет об обличении епископом ересиарха-армяновера Маркиана – самого раннего представителя антитринитарного движения на Руси, упомянутого в источниках 24. Примечательно, что обличение еретика святителем изображается здесь, в соответствии с традицией миссионерских житий, в форме прения противников – правда, без упоминания каких-либо подробностей диспута. Приведу соответствующий фрагмент Жития:
«При семъ святители Иакове возниклъ бѣ некий еретикъ именемъ Маркианъ, который еретическимъ своимъ безумиемъ научал иконамъ святымъ не покланятися, нарицая тыя идолы, и иныя многия разсѣвалъ плевелы в паствѣ святителя Иакова и душевредная учения, коимъ такъ поколебалъ князей, людей и народ весь. Бяше бо зѣло хитръ в словесѣхъ и в писании книжномъ коваренъ, что мъногия тою его проклятою ересию по-вредилися и к ней пристали. От коея ереси примѣчати можно, что суть потомки // его – двуперстники-арменоподражатели, нынѣшнии ожесточении фараонити, рас-кольщики проклятии.
Сие видя добрый и бодрый пастырь свя-тый Иаковъ, сердцемъ соболѣзнуя о погибели ослѣпляемыхъ душь тою ересию, умоли князей и боляръ быти о семъ прению публичному при собрании нарочитыхъ духов-ныхъ и мирскихъ персонъ, на которомъ собрании поставленъ бысть злочестивый Маркиан, армѣновѣр мѣрский, коего святый Иаковъ абие аки молниею поразилъ священными словесы своими, отвергая 25 съкверны смрадныя на церковь святую – так что ничего не возмоглъ отвѣщати или про-тивитися 26 благодати Божией, исходящей от устъ его. И того ради изгнанъ бысть бо- гомерский расколщикъ той с великим сту-домъ от среды собрания из града Ростова, а стадо Христово паствы святаго Иакова ос-талося невредимо въ вѣрѣ непорочной» 27.
Еще один обязательный миссионерский топос – мотив сокрушения идолов, разрушения языческих капищ или кумирен.
В «Памяти и похвале князю русскому Владимиру» [1997. C. 318, 320] он использован дважды. В обоих случаях топос выдержан в общей форме, в первой цитате лишь названы имена языческих богов – Перуна и Хорса: «Крести же и всю землю Рус-кую от конца и до конца, и поганьскыя боги , паче же и бѣсы , Перуна и Хърса , и ины мно-гы попра , и съкруши идолы , и отверже всю безбожную лесть»; «Блаженный же князь Володимеръ, внукъ Олжинъ, крестився самъ, и чяда своя, и всю землю Рускую крести от конца до конца, храмы идолскыя и требища всюду раскопа и посѣче , и идолы съкруши , и всю землю Рускую и грады честными церкви украси…».
В Житии Авраамия Ростовского присутствует сюжет о сокрушении подвижником «многокозненного» идола Велеса, в котором поселился злой бес. Преподобный Авраа-мий, совершив с Божией помощью путешествие в Константинополь, после молитвы в церкви Иоанна Богослова получает благословение самого апостола и трость из его рук, которой он впоследствии сокрушает каменного идола [Повесть о водворении христианства в Ростове, 1982. С. 130–134]. Примечательно, что входная миниатюра, открывающая один из списков Жития, изображает преподобного Авраамия, получающего благословение от Иоанна Богослова и трость в виде креста. Миниатюра сопровождается текстом, кратко излагающим упомянутый сюжет, который, таким образом, получает статус центрального в Житии: «Явися преподобному Аврамию святый Иоаннъ Богословъ на пути, и вдаде ему трость, и глаголавъ ему: “Возвратися в Рос-товъ и избоди тростию сею идола Велеса. И рцы ему: «Во имя Иоанна Богослова да сокрушишися!»” И абие сотвори тако свя-тый, и бысть весь идолъ в прахъ» 28.
В Похвальном слове Константину Муромскому упоминаются жертвенные дере- вья, которым поклонялись муромские язычники, увешивая их ветви «убрусцами»: «Гдѣ рЪкамъ и езеромъ требы кладущей? foi ду-плинамъ древянымъ в^тви убрусцами обв^-шающеи и симъ покланяющеися?» [Руди, 2004. С. 333].
Мотив уничтожения миссионером тотемных деревьев присутствует, как уже упоминалось, в Житии Стефана Пермского (святой разрушает «нарочитую кумирницу» зырян – «прокудливую березу»), а также в Житии Трифона Вятского – просветителя остяков, современных удмуртов: здесь агио-граф подробно описывает огромную ель, которой поклонялись местные язычники: «Обычай бо бе им, нечестивым, по своей их поганской вере, идольския жертвы творити под древом, ту стоящим, и всякой злобе начальник враг диавол вселися ту и обладаше древом тем, мечты творя всяким злокознст-вом. И аще кто от христиан, не утверждейся верою совершенною и о благочестии неискусен, древу тому посмеется, или что от приношения их нечестивого возмет, или того древа ветвь уломит, таковым многим пагуба бываше, инии же смертию умираху» 29. Когда преподобный Трифон решает срубить эту ель, он вооружается иконой и призывает на помощь Христа и Богородицу [Агапкина, Топорков, 1988. С. 226–227]. Интересно, что исследователь проблемы тотемных деревьев фольклорист и этнограф Д. К. Зеленин пишет о том, что табуирование ели (наряду с осиной) было известно и у восточных славян [1937. С. 43].
Использование большинства из названных житийных топосов было обусловлено, как можно думать, реальными обстоятельствами подвижнической деятельности просветителей народов: каждый из них должен был разрушать языческие капища и вести борьбу с местными волхвами или жрецами. Однако миссионерская топика включает в себя и чисто литературные топосы. К ним можно отнести, например, аллюзию на цитату из Псалтири «якоже жадаеть елень на источники водныя» (ср.: Пс. 41: 2), которая традиционно используется при описании охватившего святого неудержимого желания просветить находящийся во тьме неверия народ 30.
В качестве другого литературного топоса можно назвать использование фрагмента «Слова о Законе и Благодати» о прославлении просветителей народов как преамбулы для похвалы новому крестителю: «Хвалить же похвалныими гласы Римьскаа страна Петра и Паула, имаже вѣроваша въ Иисуса Христа, Сына Божиа; Асиа и Ефесъ, и Патмъ Иоанна Богословьца, Индиа Фому, Египетъ Марка. Вся страны и гради, и лю-дие чтуть и славять коегождо ихъ учителя, иже научиша я́ православнѣй вѣрѣ» [Слово о Законе и Благодати…, 1997. С. 42].
Так, например, в Житии Леонтия Ростовского читаем: «Радуйся, ревнителю святых апостол , искоренителю бѣсовскыа льсти. Хвалит бо римскаа земля Петра и Павла , греческаа земля - Костянтина царя , Киев-скаа земля - Володимера князя , Ростовская земля тебе , великый святителю Леонтие , ублажаеть , сътворившаго д^ло равно апо-столомь » [Семенченко, 1989. С. 253].
Сравним епифаниеву похвалу равноапостольному Стефану Пермскому: «Да како тя възможем по достоянию въсхвалити, или како тя ублажим, яко створил еси дЪло равно апостоломъ? Хвалит Римскаа земля обою апостолу , Петра и Павла; чтит же и блажит Асийскаа земля Иоана Богослова , а Египетскаа Марка еуангелиста , Антиохий-скаа Луку еуангелиста , а Греческаа Андрея апостола , Русскаа земля великого Володи-мера , крестившаго юл. Москва же блажит и чтит Петра митрополита яко новаго чю-дотворца. Ростовская же земля Леонтиа , епископа своего. Тебе же , о епископе Стефане , Пермьская земля хвалит и чтит ако апостола , яко учителя, яко вожа, яко наставника, яко наказателя, яко проповѣдника, яко тобою тмы избыхом, яко тобою свѣт познахом» [Житие Стефана Пермского, 1995. С. 218].
Примечательно, что Семен Денисов, создавая панегирик Зосиме и Савватию Соло- самого князя Владимира принять святое крещение), Житие Константина Муромского и др. Отмечу, что эта цитата может использоваться и в житиях преподобных, иллюстрируя неутолимую жажду принятия святым монашеского пострига (см., например, жития Сергия Радонежского, Александра Ошевенского и др.). Ср. использование аллюзии на эту цитату в ином контексте в Житии Мартирия Зеленецкого: здесь духовный отец будущего подвижника, блаженный Мина, дает духовные наставления отроку, «яко елень жела-ше присно наслаждающаго источника немутныя воды» (цит. по: [Крушельницкая, 1996. С. 295]).
вецким, также использовал параллель с Петром и Павлом, причиной чего, по-види-мому, стал тот факт, что преподобный Зо-сима был не только одним из основателей Соловецкого монастыря, но и просветителем Поморья: « Тако сия чюдотворца в по-мощех имать , яко Рим Петра и Павла , и вся Росиа чюдесы его, яко камением драгоценным, украшается» [Юхименко, 1993. С. 354].
Иногда, впрочем, «апостольская похвала» может использоваться и авторами текстов, никак не связанных с миссионерской темой, – в таких случаях она имеет функции общей похвальной формулы. Так, в Житии Евфросинии Полоцкой читаем: «Тѣмже, братия, хвалится Селун о Дмитрии , Выше-город – мученикома Борисом и Глѣбом , аз же хвалю блаженый сей град Полотцкий , такову лѣторасль возрастивши , преподобную Еуфросинию » [Из Степенной книги царского родословия, 2003. С. 434]. Сравним в Житии Вассы (во инокинях Феодоры) Нижегородской, заимствовавшем, среди прочего, похвалу святой из Жития Евфро-синии Полоцкой: «... хвалится Селунь о Димитрии , Вышеград мученикома Борисом и Глѣбом , Нижний же Новъград сею блаженною Феодорою » [Романова, 2005. С. 614].
«Слово о житии великого князя Дмитрия Ивановича» также включает в себя пространный вариант похвальной формулы: «Похваляет убо земля Римскаа Петра и Павла, Асийскаа – Иоанна Богослова, Индей-скаа же – Фому апостола, Иерусалимскаа – Иакова, брата Господня, Андреа Пръвоз-ваннаго – все Поморие, царя Констянтина – Гречьская земля, Володимера – Киевскаа съ окрестными грады, тебе же, великый княже Дмитрие, – вся Русскаа земля» [1999. С. 226].
Самый значительный по охвату похвальный ряд выстроен, пожалуй, в Житии юродивого Прокопия Устюжского, в котором представлена масштабная картина русской святости. В нем отсутствуют собственно апостольские имена – в соответствии с чином святости прославляемого подвижника они оказались заменены на имена византийских юродивых, которые предваряют 35 имен русских святых:
«Царь убо градъ блажитъ // и прославля-етъ великих и досточюдныхъ святыхъ и блаженныхъ мужъ – Симеона, и Иоанна, и Андрея, иже Христа ради юродивыхъ.
Великий же Новъградъ блажитъ архи-епископовъ Иоанна и Евфимия, Никиту и Иону, и преподобнаго Варлаама, и Саву, и Михаила Клопьскаго.
Псковъ же градъ блажитъ благовѣрныхъ князей Всеволода и Доманта.
Московьское же Российкое царство бла-житъ и славитъ пре- // освященныхъ митро-политовъ Петра и Алексия и Иону, и бла-женныхъ Христа ради Максима и Василия, и иных святыхъ.
Ростовь же блажитъ и славитъ еписко-повъ Леонтия, и Исаию, и Игнатия, и Ияко-ва, Васиана и Ефрема, и преподобнаго Ав-раамия, и Исидора блаженнаго.
Смоленьский же градъ и Ярославль бла-жатъ великаго князя Феодора и чадъ его Давида и Константина.
Градъ же Вологда блажитъ и славитъ преподобнаго Димитрия // Прилуцкаго, и иныя же тамо окрестныя веси того же града славятъ преподобных отецъ Корнилия Ко-мельскаго, и Павла Обнорскаго, и Сергия Нурменьскаго, Дионисия и Амфилохия Глушицкихъ.
Сиверная же страна по Двинѣ рѣцѣ, зо-вомая рѣка Вага, на нейже грады и веси, и тамо блажатъ и славятъ Георгия юродиваго Христа ради.
Соловецкий же островъ в понтѣ окиана-моря и вси окрестныя жители блажатъ // и славятъ преподобныхъ отецъ Зосиму и Са-ватия.
И каяждо убо страна и градъ блажатъ, и славятъ, и похваляютъ своихъ чудотвор-цовъ. Восточная же страна, в нейже градъ, именуемый Устюгъ, и градъ Выборъ пре-дѣлъ Соли Вычегоцкия и окрестныя ихъ предѣлы и веси блажатъ и прославляютъ тебе, досточюдне и треблаженне Прокопие. И имѣемъ тя вси, яко стража и хранителя и заступника // граду нашему, яко никогдаже убо ты воздремлеши, ниже почиеши, но всегда сохраняя отчину свою, великий градъ Устюгъ, и окрестныя предѣлы и веси и вся живущая ту люди» 31.
И. Яхонтов видел в этом пассаже яркое проявление «местного взгляда древнерусского человека на святых угодников» [1881. С. 264] 32. Можно заключить, таким обра- зом, что «апостольская похвала», возникшая и сформировавшаяся как типический топос миссионерских жизнеописаний, не является исключительной характеристикой житий просветителей народов, но принадлежит сфере универсальной агиографической топики.
Подведем краткие итоги. Топика imitatio apostolorum , активно использующаяся в житиях русских крестителей – князя Владимира, Леонтия Ростовского, Стефана Пермского, Константина Муромского, Трифона Печенгского, Трифона Вятского и др., – включает в себя следующие основные топосы:
-
а) именование крестителя того или иного народа равноапостольным, а зачастую – и собственно апостолом;
-
б) уподобление святого апостолам и Константину Великому, иногда с перенесением на миссионера в качестве «титула» имени его великого предшественника ( translatio nominis ) 33;
-
в) использование аллюзии на цитату из Псалтыри «якоже жадаеть елень на источники водныя» (ср.: Пс. 41: 2) для описания охватившего святого неудержимого желания просветить находящийся во тьме неверия народ;
-
г) описание в устойчивых формулах жестоких язычников, пытающихся убить подвижника («устремишася на святого со оружиемъ и с дреколиемъ», «яко лвы рыкающе» и др.);
-
д) мотив прения с волхвом (волхвами), восходящий к сюжету о прении с Симоном-волхвом из апокрифических Деяний Петра и Павла;
-
е) использование фрагмента «Слова о Законе и Благодати» о прославлении просветителей народов («Хвалить же похвалныими гласы Римьскаа страна Петра и Паула…») как преамбулы для похвалы новому крестителю.
Топика миссионерских житий, как и другие типы агиографической топики, не является замкнутой системой: некоторые ее элементы могут присутствовать в жизнеописаниях святых иных чинов святости – в первую очередь святителей, а также мучеников, благоверных князей, юродивых и др. Вместе с тем в житиях просветителей народов нередко используются универсальные агиографические топосы, а также топосы, свойственные иным типам житий, в частности, – житиям преподобных.
Список литературы О топике миссионерских житий (житие Стефана Пермского в контексте агиографической топики)
- Агапкина Т. А., Топорков А. Л. Материалы по славянскому язычеству (древнерусские свидетельства о почитании деревьев) // Литература Древней Руси. Источниковедение: Сб. науч. ст. Л.: Наука, 1988. С. 224-235.
- Белоброва О. А. Житие Трифона Печенгского (Кольского) // Словарь книжников и книжности Древней Руси / Под ред. Д. С. Лихачева. Л.: Наука, 1988. Вып. 2 (вторая половина XIV - XVI в.), ч. 1. С. 337-339.
- Буланин Д. М. Античные традиции в древнерусской литературе XI-XVI вв.: Моногр. (Slavistische Beiträge. Bd. 278). München: Verlag Otto Sagner, 1991. 468 S.
- Власов А. Н. Устюжская литература XVI-XVII вв.: историко-литературный аспект: Моногр. Сыктывкар, 1995. 212 с.
- Власов А. Н. Миссия русской православной церкви в Пермском крае (по материалам древнерусской письменности) // Христианизация Коми края и ее роль в развитии государственности и культуры: Сб. науч. ст. / Под ред. Э. А. Савельевой. Сыктывкар, 1996а. Т. 1. С. 6-15.
- Власов А. Н. Миссия русской православной церкви в Пермском крае (по материалам древнерусской письменности) // История Пермской епархии в памятниках письменности и устной прозы: исследования и материалы: К 600-летию со дня преставления Стефана Пермского: Сб. науч. ст. / Под ред. А. Н. Власова. Сыктывкар, 1996б. С. 4-75.
- Власов А. Н. Житийные повести и сказания о святых юродивых Прокопии и Иоанне Устюжских: Моногр. СПб.: Изд-во Олега Обышко, 2010. 640 с. (Серия «Древнерусские сказания о достопамятных людях, местах и событиях» / Под ред. Г. М. Прохорова).
- Дробленкова Н. Ф., Прохоров Г. М. Епифаний Премудрый // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л.: Наука, 1988. Вып. 2 (вторая половина XIV - XVI в.), ч. 1: А-К. С. 211-220.
- Жеребцов Л. Н. Историко-культурные взаимоотношения коми с соседними народами: Моногр. М.: Наука, 1982. 224 с.
- Зеленин Д. К. Тотемы-деревья в сказаниях и обрядах европейских народов: Моногр. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937. 78 с. (Труды Института антропологии, археологии, этнографии. Т. 15, вып. 2).
- История Пермской епархии в памятниках письменной и устной прозы. Исследования и материалы: К 600-летию со дня преставления Стефана Пермского: Сб. науч. ст. / Под ред. А. Н. Власова и др. Сыктывкар, 1996. 157 с.
- Калугин В. В. Житие Трифона Печенгского, просветителя саамов в России и Норвегии: Моногр. М.: Древлехранилище, 2009. 600 с.
- Клибанов А. И. Реформационное движение в России в XIV - первой половине XVI в.: Моногр. М.: Изд-во АН СССР, 1960. 412 с.
- Коновалова О. Ф. Принцип отбора фактических сведений в «Житии Стефана Пермского» // ТОДРЛ: Сб. науч. ст. Л.: Наука, 1969. Т. 24. С. 136-138.
- Королев К. С., Савельева Э. А. К проблеме происхождения коми письменности // Стефан Пермский и современность: Сб. науч. ст. / Под ред. Г. Г. Бараксанова. Сыктывкар, 1996. С. 24-28.
- Красов А. Зыряне и просветитель их, святый Стефан, первый епископ Пермский и Устьвымский (1383-1396): К 500-й годовщине со дня кончины святого Стефана: Моногр. СПб.: Тип В. В. Комарова, 1896. 214 с.
- Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие в древнерусской литературе. Жития Филиппа Ирапского, Герасима Болдинского, Мартирия Зеленецкого, Сказание Елеазара об Анзерском ските: исследование и тексты: Моногр. СПб.: Наука, 1996. 368 с.
- Лыткин Г. С. Зырянский край при епископах Пермских и зырянский язык: Моногр. СПб.: Тип. Имп. АН, 1889. 437 с.
- Мельник А. Г. История почитания Ростовских святых в XII-XVII вв.: Дис. … канд. ист. наук. Ярославль, 2003. 260 с.
- Митрофан (Баданин), игумен. Преподобный Трифон Печенгский и его духовное наследие: Житие, предания, исторические документы. Опыт критического переосмысления: Моногр. Мурманск: Изд-во Мурманской епархии, 2003. 296 с.
- Митрофан (Баданин), игумен. Преподобный Трифон Печенгский: исторические материалы к написанию Жития: Моногр. СПб.; Мурманск: Ладан, 2009. 304 с.
- Несанелис Д. А. Святитель Стефан Пермский в отечественной историографии // Христианство и язычество народа Коми: Сб. науч. ст. / Сост. и науч. ред. Н. Д. Конаков. Сыктывкар, 2001. С. 3-11.
- Ольшевская Л. А., Травников С. Н. «Житие Иоанна Казанского» // Герменевтика древнерусской литературы. М., 2000. Сб. 10. С. 360-365.
- Отрадинский С. П. Святой Стефан, просветитель зырян и первый епископ Пермский (по поводу 500-летия со дня его кончины, 1396-1896 гг., 26 апреля): Моногр. М.: Об-во распространения полезных книг, 1896. 40 с.
- Петренко Н. А. Агиографические источники о епископах пермских // Христианизация Коми края и ее роль в развитии государственности и культуры: Сб. науч. ст. Сыктывкар, 1996. Т. 1. С. 205.
- Плюханова М. Б. Сюжеты и символы Московского царства: Моногр. СПб.: Акрополь, 1995. 336 с.
- Подскальски Г. Христианство и богословская литература в Киевской Руси (988-1237 гг.): Моногр. 2-е изд., испр. и доп. / Пер. А. В. Назаренко; под ред. К. К. Акентьева. СПб.: Византинороссика, 1996. ХХ 572 с. (Subsidia Byzantinorossica. T. 1).
- Полетаева Е. А. Художественное своеобразие «Жития преподобна го отца нашего Трифона начальника, Печенскаго чюдотворца, лопарский язык просвѣтившаго святым крещением» - памятника агиографии Русского Поморья XVII века // Христианизация Коми края и ее роль в развитии государственности и культуры: Сб. науч. ст. Сыктывкар, 1996. Т. 2: Филология. Этнология. С. 234-237.
- Попов Е., прот. Святитель Стефан Великопермский: Моногр. Пермь: Тип. Губерн. правления, 1885. 94 + II с.
- Прохоров Г. М. Стефан // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л.: Наука, 1989. Вып. 2, ч. 2: Л-Я. С. 411-416.
- Прохоров Г. М. Равноапостольный Стефан Пермский и его агиограф Епифаний Премудрый // Святитель Стефан Пермский: К 600летию со дня преставления: Моногр. СПб.: Глагол, 1995. С. 3-47. (Серия «Древнерусские сказания о достопамятных людях, местах и событиях»).
- Прохоров Г. М. Заметки о русском миссионерстве // Книга и литература в культурном пространстве эпох (XI-XX века): Сб. ст., посвящ. 45-летию науч.-пед. деятельности Елены Ивановны Дергачевой-Скоп / Сост. и отв. ред. О. Н. Фокина, В. Н. Алексеев. Новосибирск: Изд-во ГПНТБ СО РАН, 2011. (Серия «Книга и литература»). С. 485-496.
- Ранчин А. М. «Хроника Георгия Амартола» и «Повесть временных лет»: Константин Равноапостольный и князь Владимир Святославич // Герменевтика древнерусской литературы. М., 2000. Сб. 10. С. 52-69.
- Ранчин А. М. Вертоград Златословный: древнерусская книжность в интерпретациях, разборах и комментариях: Моногр. М.: Новое лит. обозрение, 2007. 576 с.
- Романова А. А. Житие Вассы (Феодоры) Нижегородской: Пространная (Компилятивная) редакция // Русская агиография. Исследования. Публикации. Полемика / Под ред. Т. Р. Руди, С. А. Семячко. СПб.: Дмитрий Буланин, 2005. С. 601-614.
- Руди Т. Р. «Imitatio angeli» (проблемы типологии агиографической топики) // Русская литература. 2003. № 2. С. 48-59.
- Руди Т. Р. Похвальное слово князю Константину Муромскому (некоторые проблемы исследования) // ТОДРЛ. СПб.: Дмитрий Буланин, 2004. Т. 56. С. 301-336.
- Руди Т. Р. Топика русских житий (вопросы типологии) // Русская агиография. Исследования. Публикации. Полемика: Сб. науч. ст. / Под ред. Т. Р. Руди, С. А. Семячко. СПб.: Дмитрий Буланин, 2005. С. 59-101.
- Рыжова Е. А. Миссионерские предания в Повести о рождении и крещении Стефана Пермского (на материале рукописных сборников Усть-Сысольской Общественной библиотеки) // Рябининские чтения - 2007: Материалы V Науч. конф. по изучению народной культуры Русского Севера / Под ред. Т. Г. Ивановой. Петрозаводск, 2007. С. 438-440.
- Савельева Э. А. Пермь Вычегодская: к вопросу о происхождении народа коми: Моногр. М.: Наука, 1971. 224 с.
- Семенченко Г. В. Древнейшие редакции Жития Леонтия ростовского // ТОДРЛ. Л.: Наука, 1989. Т. 42. С. 241-254.
- Серебрянский Н. Древнерусские княжеские жития (обзор редакций и тексты): Моногр. М.: Синод. тип., 1915. 186 + VII с.
- Смоленцев Л. Н. Великий Зырянин // Родники Пармы: Науч.популярный сб. Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1993. С. 15-27.
- Спасский Ф. Г. Русское литургическое творчество (по современным минеям): Моногр. Париж: YMCA-Press, 1951 (переизд.: М.: Изд-во Московской Патриархии, 2008). 544 с.
- Стрельников С. В. Житие Иакова Ростовского // Словарь книжников. СПб.: Дмитрий Буланин, 2004. Вып. 3, ч. 4; Дополнения. С. 384-385.
- Творогов О. В. К изучению древнерусского перевода «Жития Константина и Елены» // Русская агиография. Исследования. Материалы. Публикации: Сб. науч. ст. / Под ред. Т. Р. Руди, С. А. Семячко. СПб.: Пушкинский Дом, 2011. Т. 2. С. 326-365.
- Тираспольский Г. И. Епифаний и его «Житие Стефана Пермского» // Епифаний Премудрый. Житие Стефана Пермского: Моногр. / Пер. с древнерус., предисл., примеч., справ. материал и коммен. Г. И. Тираспольского. Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1993. С. 5-8.
- Успенский Б. А. Восприятие истории в Древней Руси и доктрина «Москва - Третий Рим» // Успенский Б. А. Избр. тр. М.: Языки русской культуры, 1994. Т. 1: Семиотика истории. Семиотика культуры. С. 83-123.
- Успенский Б. А., Лотман Ю. М. Отзвуки концепции «Москва - Третий Рим» в идеологии Петра Первого (к проблеме средневековой традиции в культуре барокко) // Успенский Б. А. Избр. тр. М.: Языки русской культуры, 1994. Т. 1: Семиотика истории. Семиотика культуры. С. 124-141.
- Уханова Е. В. Житие св. Иакова, епископа Ростовского (источники и литература) // ТОДРЛ. СПб.: Дмитрий Буланин, 1993. Т. 47. С. 241-249.
- Федотов Г. П. Святые Древней Руси: Моногр. М.: Московский рабочий, 1990. 269 с.
- Чернецов А. В. «Самотворитель новыя грамоты» Стефан Пермский // Древнерусская книжность (Творчество и деятельность Стефана Пермского, естественнонаучные и сокровенные знания на Руси): Сб. науч. ст. / Под ред. Р. А. Симонова. М.: Изд-во МГАП, 1995. С. 48-131.
- Чурина И. О. Культ православного просветителя финно-угорских племен преподобного Трифона Вятского как историко-культурный феномен: Дис. … канд. ист. наук. СПб., 2008. 351 с.
- Шестаков П. Д. Св. Стефан, Первосвятитель Пермский // Учен. зап. Имп. Казанского ун-та. 1868. Т. 4. С. 21-110.
- Юхименко Е. М. Почитание Зосимы и Савватия Соловецких в Выговской старообрядческой среде // ТОДРЛ. СПб.: Дмитрий Буланин, 1993. Т. 48. С. 351-354.
- Юхименко Е. М. Апостолы Нового времени. Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви в XVII - начале XIX века: Каталог выставки. М.: Государственный Исторический музей, 2004. 128 с.
- Яхонтов И. Жития святых севернорусских подвижников Поморского края как исторический источник: Моногр. Казань: Тип. Имп. ун-та, 1881. 377 с.
- Komendová J. Světec a šaman: Kulturní kontexty ruské středověké legendy: Monographia. Praha: Argo, 2011. 208 c. (Edice Každodenní život. Sv. 52).