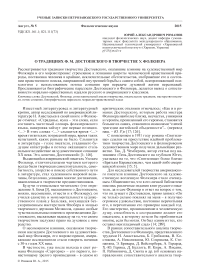О традициях Ф.М. Достоевского в творчестве У. Фолкнера
Автор: Романов Юрий александровиЧ.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 5 (150), 2015 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются традиции творчества Достоевского, оказавшие влияние на художественный мир Фолкнера и его мировоззрение: стремление к познанию широты человеческой нравственной природы, постановка человека в крайние, исключительные обстоятельства, изображение его в состоянии нравственного поиска, напряженной внутренней борьбы с самим собой, всепроникающий психологизм с использованием потока сознания при передаче духовной жизни персонажей. Прослеживаются биографические параллели Достоевского и Фолкнера, делается вывод о сопоставимости морально-нравственных идеалов русского и американского классиков.
Достоевский, фолкнер, сопоставительный анализ творчества, писательские традиции, мастерство писателя, поток сознания, биографические параллели, морально-нравственный идеал
Короткий адрес: https://sciup.org/14750927
IDR: 14750927 | УДК: 821.161.1;
Текст научной статьи О традициях Ф.М. Достоевского в творчестве У. Фолкнера
Известный литературовед и литературный критик, автор исследований по американской литературе Н. Анастасьев в своей книге о Фолкнере отмечал: «Страданье, мука – эти слова, если составить частотный словарь фолкнеровского языка, наверняка займут две первые позиции. <…> В этих словах <…> слышится время <…> время гигантских потрясений мира, время таких испытаний, каких раньше не было. Слышится и литература – голос писателя, угадавшего будущие катастрофы и потому оказавшего столь сильное воздействие на художественное сознание XX века. Это, конечно, Достоевский» [1; 146].
Выдающийся американский писатель Уильям Фолкнер, отличительными чертами которого всегда были творческая самостоятельность, самобытность, упорство в поиске собственного пути в литературе, стал художником мировой величины, безусловно, усваивая многие достижения, накопленные в творчестве предшественников.
Будучи «гениальным читателем» (это определение А. Бема [5], высказанное о Достоевском, можно, несомненно, отнести и к Фолкнеру), он учился единству и монументальности художественного плана у Бальзака, восхищался безукоризненным мастерством Флобера и мощью творческого дерзания Мелвилла, однако особые чувства испытывал именно к произведениям Достоевского, высказывая надежду на то, что своим творчеством заслужил право на духовное с ним родство.
О несомненном влиянии, оказанном творческим наследием Достоевского на художественный мир Фолкнера, его мировоззрение, американские исследователи стали говорить начиная с 30-х годов XX века.
В частности, уже после выхода в свет романа Фолкнера «Сарторис» – его первого, по-настоящему зрелого произведения – в одном из критических откликов отмечалось: «Как и в романах Достоевского, которым работа мистера Фолкнера наиболее близка, несчастья, унижения и героизм, проявленный его героями, становятся больше их самих, становятся символами “слепой трагедии житейской обыденности”... (перевод наш. – Ю. Р.)» [17; 126].
С появлением в 1931 году романа «Святилище» ссылки на присутствие идейной проблематики творчества Достоевского в фолкнеровском художественном мире получили дальнейшее развитие. Так, Д. Чемберлен, автор статьи под названием «Тень Достоевского на глубоком Юге», указывал на то, что «Святилище» более близко «Братьям Карамазовым», чем какой-либо американской книге [15; 5].
Для исследователей творчества американского писателя влияние Достоевского на художественную вселенную Фолкнера стало очевидным. Общеизвестно, что в его личной библиотеке имелись различные издания книг русского писателя, да и сам Фолкнер в ответ на вопрос о том, что он думает о Достоевском, прямо заявил: «Он не только сильно повлиял на меня – я получаю огромное удовольствие, постоянно перечитывая его, я перечитываю его примерно каждый год. Его мастерство, проникновение в человеческую душу, способность к состраданию делают его писателем, к которому хотели бы приблизиться многие, если бы могли. Он был одним из тех, кто оставил неизгладимый след» [14; 289].
В рамках сопоставительного анализа творчества Достоевского и Фолкнера, представленного трудами Н. Анастасьева, Б. Грибанова, В. Ко-стякова, А. Николюкина, Ю. Сохрякова, К. Степаняна, Э. Брикера, Д. Вейсгербера, А. Герарда, Х.-Ю. Герика, Д. Келлога, И. Кирк, А. Писани, П. Рабиновича, Д. Смита и др. (об основных направлениях сопоставительного анализа твор- чества русского и американского классиков см. [10]), изучению традиций Достоевского в художественном мире Фолкнера отводится в целом значительное место, что подтверждается также и работами последних лет. В частности, К. Степанян, исследовавший не только творчество Фолкнера, но и произведения таких крупнейших прозаиков ХХ века, как И. Шмелев, Б. Пастернак, А. Солженицын, отмечает: «Лишь Фолкнер более других из этих писателей приближается к творческим принципам Достоевского…» [12; 396]; американский исследователь Б. Сакстон в диссертации, посвященной анализу «южного гротеска», рассматривая творчество Достоевского в качестве одного из источников данного феномена и отмечая его влияние на писателей-южан в целом, ссылается на мнение о том, что Фолкнер – это Достоевский американского Юга [16; 2]; по мнению А. Банах-Маникиной: «Анализ рецепции Фолкнером романа “Братья Карамазовы” и реализации семейной проблематики в романе Фолкнера “Авессалом, Авессалом!” позволяет с достаточной степенью уверенности говорить о созданной американским писателем модели, типологически сходной со “случайным семейством” Достоевского, условно названной нами “разрушенным южным семейством”» [3; 19].
Цель настоящего исследования состоит в том, чтобы на основе сопоставительного анализа творческих принципов русского и американского классиков уточнить существующее представление о реализации писательских традиций Достоевского в творчестве Фолкнера и расширить его.
В качестве отправной точки для данного исследования может служить суждение о Достоевском как о «мыслителе, посещаемом Богом и Сатаной, апостоле страдания и свободы (перевод наш. – Ю. Р .)», высказанное в известной книге Вейсгербера [18; XII].
Данная мысль открывает путь к пониманию вопроса о традициях Достоевского в творчестве Фолкнера, указывает на важнейшую из них. Как и характеры Достоевского, герои Фолкнера заключают в себе необъятную «широкость» (о которой Дмитрий Карамазов говорил, что он бы ее «сузил»1), вмещающую и «идеал содомский», и «идеал Мадонны» (14; 100). По мысли Ю. Сохрякова, Достоевский ввел в свои романы «множественность точек зрения», что «позволило писателю выразить новый взгляд на человека как существо, которое стремится осмыслить себя в мире, осмыслить свое отношение к миру», и именно эти мотивы развивал в своем творчестве Фолкнер, чьи герои «мучительно и сложно размышляют о самих себе и о мире, каждый из них пытается осмыслить самого себя, разрушить скорлупу своего одиночества и найти путь к людям» (в качестве примера исследователь указывает на образ идиота Бенджи из романа «Шум и ярость», которого нередко сравнивают с князем
Мышкиным) [11; 151]; «исследуя внутренний мир и глубинные пласты психологии таких своих героев, как Кристмас, Минк Сноупс и др., Фолкнер вслед за Достоевским показывает, что своеволье и насилие могут проявлять не только сильные мира сего, но и задавленные нуждой бедняки», способные проявлять «“своеволие”, “самостоятельное хотение”», и «характерен в этом отношении не только Кристмас, но и Минк Сноупс <…> который является одним из вариантов “человека из подполья”» [11; 152]. Таким образом, поиски нравственного предела, попытки измерить человеческую «широкость» – вот путь художественного освоения действительности, который проходит в своих произведениях, вслед за Достоевским, Фолкнер.
Отсюда вытекает другая традиция русского классика, которая прослеживается в творчестве американского писателя: в своем стремлении постичь пределы человеческой «широкости» Фолкнер, как и Достоевский, помещает своих героев в предельно крайние, часто пограничные состояния, нередко обнажающие темные проявления человеческого духа. Н. Анастасьев указывает на то, что «вслед за Достоевским американский писатель считал изображение человеческого сердца в конфликте с самим собой главной задачей художника», при этом человек Фолкнера подобно человеку Достоевского постоянно ставится «в крайние, немыслимые обстоятельства», чтобы он «вполне по-достоевски <…> доказывал самому себе, что он человек» [1; 146].
Интересно, что и сам Достоевский отмечал важность данного творческого принципа. Например, в своем предисловии, посвященном публикации в журнале «Время» трех рассказов Эдгара По, он говорит о том, как американский писатель «почти всегда берет самую исключительную действительность, ставит своего героя в самое исключительное внешнее или психологическое положение» и восхищается тем, «с какою силою проницательности, с какою поражающей верностью рассказывает он о состоянии души этого человека!» (19; 88).
Фолкнер, поясняя, почему в его произведениях так много места занимает изображение темных сторон жизни, низменных проявлений человеческой природы, говорил о том, что делал это с целью «подсказывать человеку веру в то, что человек может быть лучше, чем он есть» (цит. по: [6; 4]). Писатель, по Фолкнеру, не должен быть простым «регистратором» человеческих деяний. «Ответственность писателя, – утверждал Фолкнер, – в том, чтобы рассказывать правду – рассказывать ее так, чтобы люди читали, помнили о ней, потому что она рассказана незабываемым образом. Просто сообщить факт, просто рассказать о несправедливости иногда недостаточно. Это не трогает людей. Писатель должен добавить к этому свой талант, он должен взять эту правду и поджечь под ней пламя, так чтобы люди запомнили ее» (цит. по: [6; 3–4]). Таким образом, в поисках пределов человеческой «широкости», ставя своих персонажей в пограничные состояния, Фолкнер указывал читателю путь, чтобы «быть лучше».
Нельзя не отметить еще одну традицию Достоевского, которая, будучи общепризнанной, вместе с тем является его отличительной чертой как художника, чертой, к которой, по уже упомянутым словам Фолкнера, «хотели бы приблизиться многие, если бы могли» [14; 289]. Необходимо сказать о всепроницающем психологизме русского писателя, его мастерстве и несравненном умении проникать в самые сокровенные тайники человеческой души. Примером того, сколь потрясающе глубоко писатель проникал в характеры своих героев, могут служить знаменитые слова человека из «подполья»: «Есть в воспоминаниях всякого человека такие вещи, которые он открывает не всем, а разве только друзьям. Есть и такие, которые он и друзьям не откроет, а разве только себе самому, да и то под секретом. Но есть, наконец, и такие, которые даже и себе человек открывать боится, и таких вещей у всякого порядочного человека довольно-таки накопится. <…> Теперь же <…> теперь я именно хочу испытать: можно ли хоть с самим собой совершенно быть откровенным и не побояться всей правды?» (5; 122).
Достоевский, добиваясь исключительного психологизма в изображении духовной жизни своих персонажей, использовал различные «словесные приемы», среди которых важное место занимают небывалые по остроте и накалу «словесные турниры» [8]. К таковым принадлежат напряженные, полные драматизма диалоги следователя Порфирия Петровича и Раскольникова в романе «Преступление и наказание». Достоевский нередко сопровождает их авторскими ремарками, отчетливо передавая динамику психологического состояния героев: «– Так… кто же… убил?.. – спросил он, не выдержав, задыхающимся голосом . <…> – Как кто убил?.. – переговорил он, точно не веря ушам своим , – да вы убили, Родион Романыч! Вы и убили-с… – прибавил он почти шепотом, совершенно убежденным голосом (ремарки выделены нами. – Ю. Р .)» (6; 349).
Следует отметить: в зарубежных исследованиях Достоевского часто называют отцом модернизма не только из-за проблематики его творчества (например, повесть «Записки из подполья» оценивается как лучшее введение в экзистенциализм, когда-либо написанное), но и, очевидно, из-за присутствия потока сознания в его произведениях. Вот как (потоком сознания) передает Достоевский ощущения Раскольникова после сказанной ему незнакомым мещанином фразы: «Ты убивец» (6; 209): «Он ни о чем не думал. Так, были какие-то мысли или обрывки мыслей, какие-то представления, без порядка и связи, – лица людей, виденных им еще в детстве или встреченных где-нибудь один только раз и об которых он никогда бы и не вспомнил; колокольня В-й церкви; биллиард в одном трактире и какой-то офицер у биллиарда, запах сигар в какой-то подвальной табачной лавочке, распивочная, черная лестница, совсем темная, вся залитая помоями и засыпанная яичными скорлупами, а откуда-то доносится воскресный звон колоколов…» (6; 210).
Что касается Фолкнера, то его стиль, по собственному признанию писателя, вполне соответствовал духу «современных экспериментов в технике романного повествования» [14; 121]. Однако, объясняя использование потока сознания в своих романах, например в «Шуме и ярости», Фолкнер отрицает влияние модернистов. В то же время можно констатировать: подобно тому, как это делал Достоевский, американский писатель в потоках сознания своих персонажей отображал чувства, мысли, представления, мельчайшие ощущения, транслируемые сквозь призму восприятия каждого из (словами М. Бахтина) «самостоятельных и неслиянных <…> сознаний» [4; 7].
Весьма показателен в этом смысле роман «Шум и ярость», когда одна и та же «история» воспроизводится от лица каждого из трех братьев-рассказчиков (три первые части романа), и кроме того – в традиционном авторском изложении (четвертая часть). При этом первые две части (рассказы Бенджи и Квентина) снабжены курсивом, обозначающим те места в тексте, где в потоке сознания прошлое перемежается с настоящим. Такие тексты, рассчитанные на эффект полного погружения в сознание персонажей, как нельзя лучше передают их внутренний мир. Следует отметить, что психологизм в изображении героев достигается также и за счет того, что посредством потока сознания осуществляется передача их непосредственных ощущений, – вне зависимости от общей концепции временной соотнесенности, постулируемой в романе. Вот, например, как изображена психологическая привязанность идиота Бенджи к своей сестре Кэдди в пору его счастья: «Кэдди присела , обняла меня, прижалась ярким, холодным лицом к моему. Она пахла деревьями (выделено нами. – Ю. Р .)» [13; 11].
Говоря об отражении писательских традиций Достоевского в творчестве Фолкнера, следует отметить, что разговор о них, несомненно, может и должен быть продолжен, и здесь существует обширное поле для исследований, тем более что есть факты поистине удивительного параллелизма в их человеческих судьбах.
Например, Н. Анастасьев указывает на то, что был период в начале и середине 30-х годов, когда в творчестве Фолкнера отдельные критики видели только изображение пороков, насилия, же- стокости; статья влиятельного в те годы критика А. Томпсона так и называлась – «Культ жестокости» [2; 22]. Напомним, что сходное восприятие творчества Достоевского отражал Н. Михайловский со своей известной статьей «Жестокий талант».
Как и Достоевский, Фолкнер многие годы испытывал денежные затруднения; как и Достоевский, он пережил смерть брата и взял на себя финансовую ответственность за его семью; как и русскому классику, ему довелось познать горе утраты ребенка (эта трагическая тема стало предметом исследования Ф. Форе, автора книги «Де-тоубийственный роман: Достоевский, Фолкнер, Камю. Литературно-траурное эссе», вышедшей не так давно [9]).
Фолкнер стал писателем мировой величины, впитывая достижения, накопленные развитием мировой литературы. Трудно переоценить в этом смысле то глубочайшее влияние, которое оказала на него русская классика, и в особенности творчество великого русского писателя Достоевского.
Писательские традиции Достоевского, нашедшие свое отражение в творчестве Фолкнера, такие как стремление к познанию предела человеческой нравственной «широкости», обостренное внимание к личности, изображаемой на духовном изломе, мучительный поиск истины, а также факты параллелизма в их писательских судьбах в значительной степени обусловливают и морально-нравственные идеалы американского писателя, которые, при сравнении с таковыми у Достоевского, оказываются сопоставимыми.
Высшим нравственным идеалом Достоевского было «самопожертвование» – «самовольное, совершенно сознательное и никем не принужденное самопожертвование всего себя в пользу всех <…> положить свой живот за всех, пойти за всех на крест, на костер» (5; 79). Как отмечает В. Захаров: «Позже эта идея была выражена в служении и поучениях старца Зосимы: сделать себя ответчиком за чужой грех. Виноваты все. У каждого своя мера вины. <…> Кажущаяся невиновность лишь иллюзия: каждый в ответе за мировое зло» [7; 35].
Фолкнер, которому принадлежит сходная мысль о том, что «человек не остров, каждый несет ответственность перед человечеством» [14; 446], непоколебимо верил в то, что человек, несмотря на окружающее его зло, на страх в нем самом, «не просто выстоит, он восторжествует», потому что «человек способен на сострадание, жертвы, непреклонность» [14; 30].
Творчество обоих писателей можно без колебаний назвать упорным поиском истины, страстной проповедью высшей человеческой нравственности на земле, для осуществления которой самое дорогое у человека – его внутренняя самость – должна быть обращена к обществу, всецело посвящена людям.
Список литературы О традициях Ф.М. Достоевского в творчестве У. Фолкнера
- Анастасьев Н.А. Владелец Йокнапатофы (Уильям Фолкнер). М.: Книга, 1991. 416 с.
- Анастасьев Н.А. Фолкнер. Очерк творчества. М.: Худож. лит., 1976. 221 с.
- Банах-Маникина А.В. Тема «случайного семейства» в творчестве Ф.М. Достоевского и ее рецепция в США: Автореф. дисс.. канд. филол. наук. Томск, 2006. 25 с.
- Бахтин М.М. Проблемы творчества Достоевского. М.: Алконост, 1994. 176 с.
- Бем А.Л. Достоевский -гениальный читатель//Вокруг Достоевского: В 2 т. Т. 1: О Достоевском: Сб. статей под ред. А.Л. Бема/Сост., вступ. ст. и коммент. М. Магидовой. М.: Русский путь, 2007. С. 206-218.
- Грибанов Б.Т. Уильям Фолкнер -хозяин Йокнапатофы//Фолкнер У Рассказы. Минск: Вышэйшая школа, 1985. С. 3-14.
- Захаров В.Н. Имя автора -Достоевский. Очерк творчества. М.: Индрик, 2013. 456 с.
- Лобов Л.П. Из наблюдений над словесными приемами Достоевского. Пермь: Офяс, 1927. 13 с.
- Печальная тема накануне праздника . Режим доступа: http://sapronau.livejoumal.com/35825.html
- Романов Ю.А. Сопоставительный анализ творчества Ф.М. Достоевского и У Фолкнера: возможные направления изучения и перспективы архетипного подхода в исследовании//Материалы докладов междунар. научно-практ. конф. «Вторые севастопольские кирилло-мефодиевские чтения». Севастополь: Рибэст, 2008. С. 413-419.
- Сохряков Ю.И. Традиции Достоевского в восприятии Т. Вулфа, У. Фолкнера и Д. Стейнбека//Достоевский. Материалы и исследования/Ред. Г.М. Фридлендер. Л.: Наука, 1980. Вып. 4. С. 144-158.
- Степанян К.А. Явление и диалог в романах Ф.М. Достоевского. СПб.: Крига, 2010. 400 с.
- Фолкнер У. Собр. соч.: В 9 т. Т. 2. М.: ТЕРРА -Книжный клуб, 2001. 576 с.
- Фолкнер У. Статьи, речи, интервью, письма. М.: Радуга, 1985. 488 с.
- Chapple R.L. Character Parallels in Crime and Punishment and Sanctuary//Germano-Slavica. A Canadian Journal of Germanic and Slavic Comparative Studies. 1976/78. Bd. 2. P. 5-14.
- Saxton B.T. Grotesque Subjects: Dostoevsky and Modern Southern Fiction, 1930-1960. Ann Arbor, 2012. 205 p.
- The Whole and the Parts//Critical Essays on William Faulkner: The Sartoris Family/Ed. by A.F. Kinney. Boston: G.K. Hall & Co., 1985. P. 126-127.
- Weisgerber J. Faulkner and Dostoevsky: Influence and Confluence. Athens: Ohio Univ. Press, 1974. XXII. 383 p.