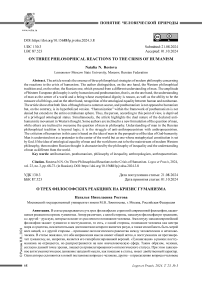О трех философских реакциях на кризис гуманизма
Автор: Ростова Н.Н.
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Понятие человеческой природы: исторические трансформации и современные проблемы
Статья в выпуске: 3 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье раскрывается суть трех философских стратегий современной философии, касающихся реакции на кризис гуманизма. Автор различает, с одной стороны, западную философскую традицию, а с другой - русскую, которые исходят из различного понимания человека. Амплитуду западноевропейской философии задают гуманизм и постгуманизм, то есть, с одной стороны, понимание человека как центра мира и существа, исключительным достоинством которого является разум, а также способность быть мерой всех вещей, а с другой стороны - признание онтологического равенства между человеческим и нечеловеческим. В статье показано, что оба направления мысли имеют общий исток, и постгуманизм не противоречит гуманизму, но, напротив, является его гиперболизированной версией. «Гуманизация» в рамках постгуманизма не отрицается, но распространяется на всю внечеловеческую сферу. Таким образом, человек, согласно данной точке зрения, лишается привилегированного онтологического статуса. При этом заявленное антигуманистическое движение западной мысли, как показано в статье, имеет двойственный характер. Одни авторы склоняются к новой постановке вопроса о человеке, другие - к преодолению вопроса о человеке в философии. Понимание человека в русской философской традиции находится за пределами логики борьбы антиантропоцентризма с антропоцентризмом. Критика гуманизма в данном случае основывается на представлении о человеке в перспективе идеи богочеловечности. Человек понимается не как претендент на центр мира, но как тот, чью метафизическую конституцию задает Бог. Если мейнстримом современной западной философии оказывается идея онтологического равенства человека и мира, то для современной русской мысли характерна философия неравенства и понимание человека как иного по отношению к миру наличного.
Антигуманизм, постгуманизм, философия неравенства, антропологизм, антропоцентризм
Короткий адрес: https://sciup.org/149147473
IDR: 149147473 | УДК: 130.3 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2024.3.8
Текст научной статьи О трех философских реакциях на кризис гуманизма
DOI:
Цитирование. Ростова Н. Н. О трех философских реакциях на кризис гуманизма // Logos et Praxis. – 2024. – Т. 23, № 3. – С. 68–73. – DOI:
Внимание к проблеме гуманизма мы обнаруживаем сегодня как в философской среде, так и шире – в культуре в целом: начиная с работы гуманистических ассоциаций и союзов, публикаций гуманистических манифестов, которые закрепляют за гуманизмом планетарный статус (П. Куртц), и заканчивая законодательными и культурными инициативами, в которых фигурирует гуманизм как универсальная ценность. Одновременно мы видим, как расширился наш интеллектуальный словарь – наряду с «гуманизмом» появился целый ряд схожих понятий: «постгуманизм», «трансгуманизм», «инфрагуманизм», «ингума-низм», «метагуманизм», «неогуманизм», «сверхгуманизм», «антигуманизм» и сопутствующие им «inhuman», «unhuman», «nonhuman», «человеческие животные», «нечеловеческие животные» и проч.
Подобная интеллектуальная активность вокруг понятия гуманизма подводит нас к мысли о том, что сегодня мы стоим перед необходимостью вновь поставить вопрос о человеке. Попробуем разобраться с происходящими интеллектуальными движениями и постараемся выявить основные философские стратегии.
Однако прежде необходимо внести ясность относительно понятия гуманизма. Как говорил Г.П. Федотов, не нужно путать гуманизм и гуманность. Гуманизм выражает культуру Ренессанса, то есть культуру человека как творческой личности. «Что, – говорит Федотов, – может быть более чуждого гуманности, чем великолепный и жестокий век Леонардо да Винчи или Борджиа» [Федотов 2004, 315]. Идеалом гуманизма служит человек-титан, человек, чьи возможности безграничны, тот, кто является, по выражению Пико делла Мирандола, славным мастером самого себя. Иными словами, делая это уточнение, мы хотим подчеркнуть, что вопрос гуманизма – в первую очередь, антропологический, а не этический. Этическое измерение оказывается производным от антропологии.
Обратимся к философским стратегиям относительно вопроса о человеке.
XX век ознаменован критикой гуманизма, связанной с трагедиями войн, экологической проблематикой, общей усталостью культуры и разочарованием в человеке. Однако эта критика имеет разную природу, поскольку исходит из различного понимания человека, а если быть точнее – в основе этой критики лежат различные антропология и онтология.
Ландшафт западноевропейской философии определяет интеллектуальная драма, развернувшаяся вокруг программного доклада Ж.-П. Сартра «Экзистенциализм – это гуманизм» и связанного с ним романа «Тошнота», спровоцировавших развитие антигуманистической мысли в Европе. Этот манифест повлек за собой реакции целой плеяды интеллектуалов, среди которых М. Хайдеггер, Ж.-Л. Нанси, П. Слотердайк, Ж. Деррида и Ф. Фукуяма. Главный герой романа Сартра «Тошнота» Антуан Рокантен объявляет о том, что он «не гуманист», в докладе «Экзистенциализм – это гуманизм» Сартр различает два вида гуманизма – подлинный и неподлинный. «Закрытому» гуманизму на манер Огюста Конта, то есть неподлинному пониманию гуманизма, Сартр противопоставляет экзистенциализм, то есть понимание человека как открытого проекта, направленного в будущее [Сартр 1989]. При этом Хайдеггер в «Письме о гуманизме» критикует Сартра, равно как и других предшественников, за неверное понимание гуманизма и потому называет себя антигуманистом [Хайдеггер 1993]. Нанси, критикуя Сартра, говорит о гуманизме как о закате западной культуры и предлагает преодолеть любые его вариации. Деррида, сравнивая антигуманистический проект Хайдеггера с жестом высшего человека в духе Ницше, противопоставляет ему идею сверхчеловека [Деррида 2012]. Слотердайк, критикуя Хайдеггера, развивает идею производства человеческого из нечеловеческого [Слотердайк web]. Фукуяма, двигаясь в русле идеи конца истории, заявляет об уникальной природе человека [Фукуяма 2004]. Иными словами, западноевропейская мысль неоднородна, и под лозунгом антигуманизма скрываются различные подходы к проблеме человека.
В одном случае речь идет о попытке новой постановки вопроса о человеке. Гуманизм здесь не отрицается, но подвергается переосмыслению. Так, М. Хайдеггер, называя себя антигуманистом, упрекает прежние вариации гуманизма в их неразрывной связи с метафизикой и понимании человека как региона сущего. По мнению Хайдеггера, проблема состоит не в том, что метафизика делает ложные утверждения относительно человека, а в том, что она недостаточно раскрывает его существо. Ее горизонт позволяет говорить о человеке лишь на уровне animalitas, но не на уровне, собственно, humanitas. От нее сокрыто человеческое в человеке. Ответом на этот изъян должен служить, по мнению Хайдеггера, его проект фундаментальной онтологии, то есть такая философия, которая позволит задать вопрос о человеке, исходя из истины бытия, а не сущего. Однако при этом Хайдеггер допускает двусмысленность в своем проекте, понимая под бытием то, что дано. Иными словами, декларативно он поставил вопрос о человеке в зависимость от вопроса о бытии, но при этом бытие интерпретирует как то, что сообразуется с человеком. Для Ф. Фукуямы также характерна новая попытка постановки вопроса о человеке, но в отличие от Хайдеггера она продиктована не столько философскими, сколько общекультурными соображениями. Фукуяма реагирует на современную ситуацию, для которой, во-первых, характерно резкое развитие технологий, меняющих представление о человеке, его при- роде, статусе в мире и обществе, правах и обязанностях. Во-вторых, современный человек в широком смысле позитивист, прежние ответы на вопрос «Что есть человек?» в духе метафизики, религии и художественной литературы его уже не могут удовлетворить. Имея в виду оба момента, Фукуяма предлагает рассматривать человека в научных терминах. Тем не менее, формулируя идею человека, Фукуяма, в конце концов, сам прибегает к метафоре – человеческим в человеке он объявляет фактор Х, некий нередуцируемый ни к чему эффект целого, которым является человек и который, в свою очередь, должен служить ориентиром при легитимации тех или иных практик в нашей культуре. Никакие практики не должны нарушать фактор Х.
Во втором случае антигуманизм оказывается не попыткой новой постановки вопроса о человеке, но проектом снятия этого вопроса с философской повестки. Так, например, Деррида, разрывая связь между человеком и сознанием, философски реабилитирует различные идентичности – нечеловеческие [Деррида, Нанси 2020]. Возможно, полагает он, отношение к себе не только как к говорящему, сознающему, обладающему субъектностью, но и отношение к себе как просто к живущему. Подход, учитывающий множественность идентичностей, трансформирует гуманизм в инфрагуманизм [Деррида 2019]. Нанси, деконструируя кантовский вопрос «Что есть человек?», предлагает не множить вариации гуманизма, отвечая на него и подразумевая при этом некую сущность человека, но переформулировать сам вопрос. Новая постановка вопроса должна, на его взгляд, звучать следующим образом: «Что или кто “мы”, если не сущность?» [Нанси 1994, 152] Новая постановка вопроса предопределяет ответ на него. Отныне вопрошание касается не человека, но всего многообразия мира. Предпочитая говорить о человеке не в терминах сущности, но в терминах существования, Нанси следующим шагом расширяет понятие существование до внечеловеческой сферы. «Мы» – больше не местоимение, указывающее на людей или в целом на совокупность одушевленных существ, но антропологически и онтологически нейтральный термин, которым можно оперировать в отношении людей, кам- ней, животных и проч. Аналогично П. Слотер-дайк, переосмысливая «Письмо о гуманизме» М. Хайдеггера, ставит задачу говорить о бе-стиальном в человеке и генезисе Открытого. Иными словами, идее радикального разрыва между человеком и животным у Хайдеггера Слотердайк противопоставляет идею гомогенного перехода от животного к человеку. Таким образом, второй вариант антигуманизма, обессмысливающий философское вопрошание о человеке, находит сегодня логичное продолжение в постгуманизме.
Постгуманизм как ведущая философская стратегия приходит сегодня на смену постмодернизму в западном интеллектуальном пространстве. Суть постгуманизма состоит не в отрицании гуманизма, но в отказе от идеи человеческой исключительности. Человеку, согласно логике постгуманизма, должно быть отказано в монополии на прежние привилегии, как-то: разум, творчество, мораль, субъектность, язык, внутренний мир и проч. Но главное – человек и человеческое отныне должны мыслиться не зависимо друг от друга. Иными словами, претендовать на человечность теперь может любой регион внечело-веческого мира, будь то животное, полезное ископаемое, природное явление и проч. вплоть до привидений и призраков, которых материалистически настроенные постгуманисты мыслят в составе мира наряду со всеми его элементами. Человеческое объявляется в рамках постгуманизма правом, которое может быть передано на сторону. Между человеком и нечеловеческим отрицается онтологическая граница. Таким образом, постгуманизм трактует гуманизм предельно расширительно, охватывая им весь мир и являясь по сути проектом радикальной демократизации мышления, отрицающим любую претензию на центр, истину и онтологическое разнообразие. Как выражается один из теоретиков антропологии по ту сторону человека Вивейруш де Каст-ру Э., оконченному гуманизму необходимо противопоставить «”нескончаемый гуманизм”, который отвергает определение человечности как обособленного порядка» [Вивейруш де Кастру 2017, 13].
Русская философия исходит из иного понимания человека и, как следствие, критика гуманизма носит здесь другой характер. Если в рамках западноевропейского мышления сформировалось представление о человеке как центре мира, то в русской философии в качестве центра рассматривается Бог. Человек – это не тот, кто имеет основание в себе, не автономный субъект, но тот, кто имеет основание в Боге. Бог понимается в конститутивном отношении к человеку. Он онтологически обеспечивает человечность человека. В частности, в связи с таким пониманием в русской философии формулируются проекты человека симфонического (С. Франк, Л. Карсавин), человека литургического (П. Флоренский), негативной антропологии (Б. Вышеславцев) и др. Именно такой подход определил известную критику гуманизма, которую мы наблюдаем в XX веке в русской мысли. С. Франк пишет программную работу «Крушение кумиров», Н. Бердяев выступает с работой «Конец Ренессанса и кризис гуманизма», П. Флоренский видит в Возрождении проявление дневного типа миросозерцания, которому противопоставляет культуры ночного типа, С. Булгаков упрекает гуманизм в игнорировании иррациональной греховной природы человека и выдвигает проект аскетически контролируемой культуры. Мыслителей объединяет критика идеи самодостаточности человека, лежащая в основании гуманизма. Как выражается Н. Бердяев, кризисом и неудовлетворенностью культурой мы расплачиваемся за то, что гуманизм в своем понимании человека отказывается от сверхчеловеческого. Ответом на кризис является подлинное понимание человека, предполагающее трансцендентные начала в нем. Или, как выражается Н. Бердяев, причастность святыне. Критика гуманизма ведет русскую философию не к отрицанию человека, а к отрицанию неподлинного его понимания, в пределе своем обнаруживающего себя в антрополатрии. Русская философия предлагает религиозный вариант гуманизма, но не в локальном смысле как проект для верующих, а в фундаментальном смысле, согласно которому человечность человека задана трансцендентным горизонтом. Человек не центр мира, а икона Бога. «Парадоксально нужно сказать, – пишет Бердяев, – что наложение печати человечности есть не печать антропоморфизма, а печать теоморфизма. Ибо человечность божественна, не человек божественен, а человечность божественна» [Бердяев 1993, 319].
В русской интеллектуальной традиции была сформулирована философия неравенства, которая определяет специфику современного мышления о человеке в нашей культуре. Н. Бердяев, опираясь на К. Леонтьева, выдвинул философскую идею аристократизма и консерватизма. Под неравенством он понимает не социальную категорию, но онтологическую и антропологическую. В основе мира и человека лежит неравенство. Бытие, скажет он, это различие и иерархия, небытие – это смешение и равенство. «Всякое рождение света во тьме, – пишет он, – есть возникновение неравенства. Всякое творческое движение есть возникновение неравенства, возвышение, выделение качеств из бескачествен-ной массы. Само богорождение есть извечное неравенство. От неравенства родился и мир, космос. От неравенства родился и человек… Требование абсолютного равенства есть требование возврата к исходному хаотическому и темному состоянию… есть требование небытия» [Бердяев 2004, 518]. Исходя из такого понимания, становится понятен смысл консерватизма. Консерватизм, согласно Бердяеву, это не препятствие к развитию, не косность, но, напротив, это препятствие к возврату назад, к первичному хаосу и смешению. В уравнительных неистовствах, говорит Бердяев, таятся нечеловеческие начала в самом человеке.
Сегодня философия неравенства, то есть идея неустранимых и неэквивалентных различий, противостоящая уравнительным установкам постгуманизма, находит свое выражение в концептах внутреннего человека, молчания, воображения, онтологического размыкания, рождения смыслов. В отечественной мысли формулируются проекты сингулярной философии (Ф. Гиренок), синергийной философии (С. Хоружий), событийной антропологии (С. Смирнов), мессианской антропологии (Б. Марков), антропологии нездешнего (А. Сергеев), софийной антропологии (Ю. Осипов), апофатической антропологии (В. Варава), антропологии смысла (Л. Чернейко), коммуникативной философии (С. Клягин) и др.
Таким образом, мы видим, что в современной философии наметились три фундамен- тальные стратегии в отношении вопроса о человеке: постгуманистическая и антропологическая, последняя из которых имеет две версии.
Постгуманистическая стратегия основывается на идее отказа от человеческих ценностей и претендует на выработку новых постчеловеческих ценностей. Судьба человека в рамках данного подхода предрешена: он должен исчезнуть.
Антропологическая тенденция претендует на выработку нового понимания сущности человека и концептуализации различия человеческого и нечеловеческого в человеке. Согласно этому подходу, человек и мир должны измениться так, чтобы внешняя жизнь стала определяться внутренней жизнью. При этом антропологическая тенденция в западной философии реализуется в связи с прежним пониманием гуманизма, его переосмыслением. Антропологическая тенденция в русской философии опирается на идею онтологической аристократии, признание принципиальной инаковости человека, соборной природы сознания и Бога как центра.
Список литературы О трех философских реакциях на кризис гуманизма
- Бердяев 2004 - Бердяев Н.А. Философия неравенства // Бердяев Н. А. Философия свободы. М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2004. С. 477-728.
- Бердяев 1993 - Бердяев Н.А. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого // Бердяев Н.А. О назначении человека. М.: Республика, 1993. С. 254-357.
- Вивейруш де Кастру 2017 - Вивейруш де Кастру Э. Каннибальские метафизики. Рубежи постструктурной антропологии. М.: Ад Маргинем Пресс, 2017. 200 с.
- Деррида 2019 - Деррида Ж. Животное, которым я следовательно являюсь // Социология власти. 2019. №> 31 (3). С. 220-275.
- Деррида 2012 - Деррида Ж. Поля философии. М.: Академ. проект, 2012. 376 с.
- Деррида, Нанси 2020 - Деррида Ж., Нанси Ж.-Л. Кто приходит после субъекта? // Художественный журнал. 2020. №> 115. С. 13-33.
- Нанси 1994 - Нанси Ж.-Л. Сегодня // Ad Marginem' 93. Ежегодник Лаборатории постклассических исследований ИФ РАН. М.: Ad Marginem, 1994. С. 148-164.
- Сартр 1989 - Сартр Ж.-П. Экзистенциализм - это гуманизм // Сумерки богов. М.: Политиздат, 1989. С. 319-344.
- Слотердайк web - Слотердайк П. Правила для человеческого зоопарка // http://www.nietzsche.ru/ influence/philosophie/sloterdijk/
- Федотов 2004 - Федотов Г. П. Собрание сочинений. В 12 т. Т. 9. Статьи американского периода. М.: Мартис, 2004. 383 с.
- Фукуяма 2004 - Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее: последствия биотехнологической революции. М.: АСТ: Люкс, 2004. 349 с.
- Хайдеггер 1993 - Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Хайдеггер М. Время и бытие: статьи и выступления. М.: Республика, 1993. С. 192-220.