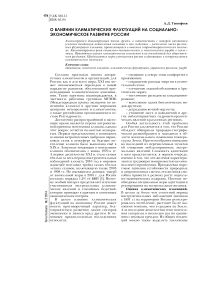О влиянии климатических флуктуаций на социально-экономическое развитие России
Автор: Тимофеев Александр Дмитриевич
Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana
Рубрика: Осмысление ноосферы
Статья в выпуске: 2 (31), 2014 года.
Бесплатный доступ
Адаптация, изменение климата, климатические флуктуации, управление рисками, ущерб
Короткий адрес: https://sciup.org/14031740
IDR: 14031740 | УДК: 330.15
Текст статьи О влиянии климатических флуктуаций на социально-экономическое развитие России
Terra Humana ¹ 2’2014
Согласно прогнозам многих авторитетных климатологов и организаций, для России, как и для всего мира, XXI век может ознаменоваться переходом к новой парадигме развития, обусловленной происходящими климатическими изменениями. Такие прогнозы подтверждаются, в частности, рабочими группами МГЭИК (Международная группа экспертов по изменению климата) и другими мировыми центрами метеорологии и климатологии, а также российскими организациями в составе Росгидромета.
Достаточно распространённой в настоящее время является версия антропогенной причины потепления климата, однако этот вопрос остаётся полностью незакрытым. Первые представления о возможном влиянии антропогенных выбросов парниковых газов в атмосферу на будущее потепление климата было высказано ещё в XIX в. Заметные тенденции в потеплении климата обозначились с конца 1970-х гг. А первое десятилетие XXI в. стало самым тёплым за весь период инструментальных наблюдений климата. 2010 год в мировом масштабе возглавил тройку самых тёплых летних сезонов, включающую также 2005 и 1998 гг. По имеющимся данным, ущерб от аномальной жары в 2010 г. для России составил порядка 1,2% её ВВП [3]. Поэтому особый интерес представляет изучение участившихся экстремальных климатических явлений и стихийных бедствий, которые приводят к прямым и косвенным экономическим потерям.
В целом влияние климатических флуктуаций на экономику России может носить противоречивый характер, благоприятствуя развитию одних секторов экономики и нанося вред другим. К основным предполагаемым последствиям относятся:
– смещение к северу зоны комфортного проживания;
– сокращение расхода энергии в отопительный сезон;
– улучшение ледовой обстановки в Арктических морях;
– увеличение расходов на кондиционирование;
– вытеснение одних биологических видов другими;
– деградация вечной мерзлоты;
– учащение засух и наводнений и других неблагоприятных гидрометеорологических явлений в различных регионах.
Особая актуальность этой проблемы для России заключается в том, что Россия обладает обширным природно-географическом разнообразием и находится в области максимального изменения температур на Земле. При этом обратим внимание на последний из перечисленных пунктов об учащении неблагоприятных экстремальных явлений. Сложность адаптации к ним представляется, в первую очередь, именно в том, что эти явления характеризуются труднопрогнозируемостью величины своего проявления. Преодолевая пороговые значения устойчивости природных и антропогенных систем, эти явления способны привести к резкому росту социально-экономических издержек. Поэтому необходимы специальные меры адаптации и реагирования на экстремальные явления.
Оценка климатических изменений. В целом за более чем столетний период инструментальных наблюдений (начиная с 1891 г.) на территории России регистрировалось потепление, растущее более высокими темпами, чем в среднем на Земле. А за последние десятилетия темп потепления ускорился в несколько раз по сравнению с вековым трендом. Из общих тенденций можно также выделить увеличение количества осадков, а, вслед за ним, - стока большинства российских рек. Во многих северных регионах, учитывая, однако, неоднозначность этого процесса, происходит увеличение сезонного слоя протаивания вечной мерзлоты. Происходит увеличение числа экстремальных климатических явлений и иных природных бедствий. Большинством экспертов ожидается учащение и усиление флуктуаций климата в XXI в.
Усилиями МГЭИК были разработаны сорок (!) климатических сценариев потепления климата в XXI в. на основе сценариев эмиссии парниковых газов и климатических моделей. Крупные международные и отечественные работы производились, как правило, на основе трёх сценариев. До середины XXI в. различия между сценариями не велики. Существенные различия по этим сценариям происходят во второй половине XXI в. Неопределённость в оценке и прогнозировании изменений добавляют естественные колебания климата и инерционность ответа климатической системы по отношению к накапливающимся в ней парниковым газам.
Основываясь на полученных данных, можно заключить, что температура будет расти более высокими темпами в более высоких широтах. Наибольший рост температур ожидается в зимний период в субантарктической и антарктической зонах, а летний рост температур в большей степени ожидается в глубине континента. На большей части Европейской территории России и Западной Сибири за 20 лет к 2030 г. ожидается повышение температуры на 1–2°С [2]. Стоит ожидать значительного повышения годовых суточных минимумов температур и чуть меньшего повышения суточных максимумов. Таким образом, сократится амплитуда температур. В итоге это приведёт к сокращению количества дней с заморозками в восточной части России на 10–15 дней, а на европейской части – почти на месяц. Сократится число морозных дней и дней с экстремально низкими температурами, в первую очередь, на Северо-Западе России и Крайнем Севере, а также на тихоокеанском побережье России. Количество осадков, особенно зимой, возрастёт на всей территории РФ, в особенности в северных и восточных регионах.
Во многих регионах следует ожидать увеличения засушливых условий, тем более что некоторыми авторами отмечается недооценённость масштабов увеличения засушливости в более раннем докладе Росгидромета (2008 г.) [3]. Общая тенденция изменения стока рек будет характеризо- ваться его увеличением в районах с достаточным или избыточным увлажнением, а уменьшение его ожидается в районах с предельным или недостаточным увлажнением.
Угроза увеличения числа опасных гидрометеорологических явлений проявляется в увеличении природно-техногенных катастроф (разрушение или повреждение промышленных и жилых строений с дальнейшим загрязнением окружающей местности), а 60% из них связанны с климатическим фактором [2, с. 71]. Общее число экстремальных природных явлений, в первую очередь, климатических, растёт в мировом масштабе, хотя на региональном уровне отмечаются значительные различия. Также «имеется доказательство того, что некоторые экстремальные явления изменились в результате антропогенных воздействий, в том числе повышения атмосферных концентраций парниковых газов» [3, с. 7]. Можно констатировать, что изменения природы опасных гидрометеорологических явлениях отражают влияние антропогенного климатического изменения в дополнение к естественной изменчивости климата.
В Специальном докладе МГЭИК, посвящённом исследованию воздействия климатических экстремумов, отмечается, что антропогенное воздействие на климат могло способствовать таким его общим изменениям как повышение экстремальных суточных минимальных и максимальных температур, интенсификация экстремальных осадков, повышение экстремального прибрежного уровня воды, а также ряд других возможных последствий с отмеченной меньшей степенью вероятности [2].
Крайне проблематичным является объяснение единичных экстремальных явлений антропогенным изменением климата. Именно эта мысль высказывалась отечественными учёными в свете выявления влияния глобального потепления на отдельные климатические случаи, как было с произошедшей аномалией 2010 года [3]. Напротив, Дж. Хансеном, директором Института космических исследований НАСА им. Годдарда, известного своей принадлежностью к лагерю алармистов в вопросе о глобальном потеплении, заявляется, что «тепловые волны» (в том числе и конкретно волна жары в России в 2010 году) представляют собой вовсе не случайные климатические флуктуации, а прямое следствие во всю идущего глобального потепления. Свой вывод Хансен делает на основе того, что в XXI веке частота таких
Среда обитания
флуктуаций резко возросла. Если 50 лет назад, по его словам, случаи экстремальной жары охватывали 1% земной суши, то теперь их территория увеличилась до 10% [4]. Однако опять же достаточно чётко улавливается связь между глобальным потеплением и изменением общей тенденцией изменения экстремальных природных явлений, но не с конкретным событием.
Последствия и оценка ущерба. Уве- личение числа экстремальных климатических явлений заставляет говорить и об оценке причиняемого ими ущерба. При этом объективной сложностью является
Terra Humana ¹ 2’2014
оценка таких потерь, как человеческие жизни, культурное наследие, природные ценности, документально неоформленные хозяйствующие субъекты, а также косвенные экономические последствия.
Можно сопоставить данные по экономическим потерям между аномалией 2010 г. в России (принёсшей, как отмечалось выше, потери в 1,2% ВВП) и данными по странам, несущими в среднем за год потери от стихийных бедствий. Согласно имеющимся данным, по итогам рассматриваемого периода 2001–2006 гг. страны со средним уровнем дохода теряли в среднем 1% в год ВВП; страны с низким уровнем дохода – 0,3% ВВП, а экономически развитые страны теряли примерно 0,1% ВВП [2]. Отсюда можно сделать вывод о том, что общие потери РФ от стихийных бедствий в 2010 г. статистически могли приблизиться к 2% ВВП. На примере России, которую закономерно можно отнести к первой группе стран из перечисленных, видно, как одно сверхэкстремальное климатическое событие может сильно изменить среднестатистическую тенденцию экономических потерь.
Однако некоторые виды потерь трудно измерить в стоимостном выражении. Так, «Жаркое лето – 2010» привело к резкому увеличению случаев заражения лихорадкой Западного Нила (особенно в Волгоградской области) и другими болезнями. В свою очередь, общее потепление климата будет также способствовать увеличению числа инфекционных заболеваний и смещению их ареала распространения на север. К наиболее опасным такого рода заболеваниям, помимо лихорадки Западного Нила, относятся малярия, клещевой энцефалит, крымская геморрагическая лихорадка и др.
Потепление климата, а в особенности рост числа опасных гидрометеорологических явлений, приведёт к увеличению числа «климатических мигрантов». Так, по некоторым оценкам число «экологическим» мигрантов в 2010 г. в мире уже насчитывалось порядка 30–50 млн человек. Соответственно к 2030 г. их число может увеличиться до 100 млн человек и более [3]. Для России в первую очередь будет характерно увеличение активности внутренней миграции, в чём проявляется высокий адаптационный потенциал России в условиях меняющегося климата. Но можно ожидать наплыва и иммиграционных потоков в Россию – в первую очередь из стран ближнего зарубежья, наиболее подверженных негативному влиянию потепления климата, природных бедствий и природно-техногенных катастроф, а также из других стран Азии и Африки. Таким образом, Россия, вместе с мировым сообществом, вынуждена будет оказывать посильную помощь странам, терпящим бедствие в связи с изменениями климата, регулируя вновь возникающие миграционные потоки. Предсказывается, что число экологических иммигрантов в XXI в. может превысить число экономических.
Экономические последствия, как негативные (« климатические барьеры »), так и позитивные (« окна возможностей »), изменяющегося климата бывают прямыми и косвенными . Под прямыми понимаются изменения условий хозяйствования, связанные с изменением динамики, структуры и технологическим укладом экономики. Косвенными, в свою очередь, последствиями являются реакции экономической системы на изменения в характере хозяйствования. К косвенным последствиям также относятся адаптационные и управленческие меры по изменению климата и его последствий.
Прогноз прямых экономических последствий от изменения климата и, в первую очередь, увеличения ущерба от гидрометеорологических явлений может варьировать в зависимости от выбора сценария развития экономики России (инерционного или инновационного) – от умеренно негативного до умеренно позитивного. За наиболее вероятный сценарий социальноэкономического развития России в ряде исследовательских организаций (РАН, Минэкономразвития) принят инерционный сценарий, основанный на тенденциях развития экономики России за последнее десятилетие. Для этого сценария характерно сохранение к 2030 году текущего структурного и технологического уклада экономики России со свойственными ему уязвимостями к последствиям изменения климата. Основными прогнозными пока- зателями для этого сценария являются сохранение сырьевого дисбаланса в структуре экономики минимум до 2020 года, со средними темпами прироста ВВП в год на уровне 4% и с сокращением населения к 2030 году до 137 млн. человек.
Основываясь на инерционном сценарии, предполагается, что экономический ущерб от изменяющегося климата, включая экстремальные природные явления, будет достигать 1–2% ВВП в год (а в отдельных регионах страны – 4–5% от РВП). Неожиданные климатические флуктуации вносят дополнительные риски в общий прогноз последствий от изменения климата и стихийных бедствий ввиду своей относительной внезапности возникновения и причинения относительно одномоментного значительного ущерба.
Ожидаемые позитивные сдвиги в экономике, такие как улучшение условий навигации на севере, расширение зоны земледелия и роста сельскохозяйственного производства, а также превышение выгод от сокращения затрат на топливо и отопление над дополнительными издержками на кондиционирование помещений летом, не будут покрывать ущерб от негативных последствий и, прежде всего, от опасных природных явлений.
Однако, при разрешении противоречий во внутренней политике России – между официально заявленной установкой на модернизацию и диверсификацию экономики и реально сохраняющейся сырьевой направленностью экономики – можно ожидать изменения баланса выгод и издержек от изменения климата в положительную сторону [3].
Увеличению вероятности реализации инновационного сценария развития России способствует то, что этот путь согласуется с повышением эффективности и конкурентоспособности хозяйства России, даже если не брать в расчёт позитивные экологические и климатические последствия и связанные с ними в итоге дополнительные экономические выгоды, о которых шла речь выше. Процессы глобализации и модернизации мировой экономики и климатические изменения могут послужить катализатором для позитивных сдвигов в российской экономике. В свою очередь, эти уже косвенные последствия изменения климата ставят Россию перед новыми вызовами к 2030 году.
Препятствием для развития России может стать введение «углеродных барьеров» США и ЕС на импорт товаров, в производстве которых содержится больше оп- ределённого порога углеродосодержащих выбросов, или если они были произведены на основе энергоёмких технологий, что характеризует основную долю российского экспорта. Таким образом, фактор изменения климата станет удобным предлогом для экономического усиления развитых стран и сдерживания роста и модернизации сырьевых экономик. С одной стороны, перспектива подобных мер противоречит торговым соглашениям ряда международных организаций. Но одна лишь апелляция к подобным соглашениям и к особенностям экономико-географического положения России, как это иногда предлагается [3], не может быть достаточной. Эти международные соглашения, в конце концов, будут заменены на новые, которые, скорее всего, будут в большей степени отражать перспективные интересы развитых стран и ускоренной модернизации мировой экономики в целом.
В свою очередь, географическое положение России (большая территория и холодный климат обуславливают большие затраты энергии по сравнению с другими странами мира, что приводит к субсидированию этой отрасли государством и находит отражение во всей её энергоёмкой экономике) также вряд ли будет в перспективе сильным аргументом в поддержании неэффективных и «незелёных» звеньев российского хозяйства. Также как посыл о «лёгких планеты», за которые России ещё должно мировое сообщество. Огромные лесные ресурсы – это не заслуга, а именно очередной ресурс, который, образно выражаясь, к «концу истории» (по Ф. Фукуяме), достался России даром. Акцент в адаптации России к меняющимся экономическим и политическим условиям, как ответу на изменение климата, должен быть сделан не на статические (к которым можно отнести обозначенные), а на динамические факторы: в первую очередь, интеллектуально-технологические.
Управление рисками и адаптация. Адаптация может быть произведена только при заблаговременной оценке последствий. К тому же под адаптацией подразумевается не только смягчение негативного эффекта, но и стратегия использования потенциала благоприятных возможностей. Все меры адаптации можно считать косвенными последствиями изменения климата.
Основным элементом управления рисками бедствий и адаптацией к неблагоприятным климатическим воздействиям является уменьшение уязвимости соци-
Среда обитания
альных и природных систем. Понимание факторов, определяющих уязвимость, способствует, в конечном итоге, разработке эффективных стратегий адаптации и управления рисками. Следовательно, прежде всего, необходимо обозначить эти факторы:
– социально-экономическое развитие; недостатки и непродуманность общественного развития могут увеличивать рассматриваемые риски (в т.ч. деградация окружающей среды, урбанизация в опасных районах, социальное неравенство, стагнация и регресс в результате войн и других конфликтов); противоречивое воздействие может оказывать глобализация экономики);
– наличие национальной системы, способствующей снижению уязвимости (она включают в себя широкий спектр взаимосвязанных общественных институтов – государство, частный сектор, НИИ, гражданское общество и др.);
– информированность населения (несвоевременные и недостаточные предупреждения о стихийных бедствиях также повышают уязвимость);
– восстановление и реконструкция после бедствия (это возможность повышения адаптационного потенциала объектов территории, подвергшейся бедствию, с учётом знаний о возможных рисках);
– гуманитарная помощь (фактор уменьшения уязвимости в регионах, не способных к самостоятельному и полноценному преодолению последствий возникших в результате бедствий);
– механизмы распределения и передачи рисков (к ним, в первую очередь, относятся различные виды страхования);
– пространственная и временная динамика уязвимости (так, меры, в настоящее время способствующие снижению уязвимости, при определённых условиях в долгосрочной перспективе могут привести к её увеличению).
Эти факторы уже включают в себя потенциал возможных направлений действий по уменьшению уязвимости антропогенных и природных систем стихийным бедствиям. И основываясь, в том числе, и на них можно представить варианты стратегий адаптации к последствиям стихийных бедствий и иных экстремальных явлений.
Все ниже перечисленные меры могут лежать в диапазоне двух видов: дополнительные меры (направленные на повышение эффективности в рамках существующих технологий) и трансформационные изменения (подразумевают под собой изменения в самой основе технологий и систем):
– интеграция мер на международном, национальном и локальном уровнях;
– меры, минимизирующие ущерб (системы предупреждения и устойчивого управления земледелием и экосистемами и т.д.);
– комплексность мер по видам ответных действий (уменьшение и перенос рисков, реагирование на события и бедствия и др.);
– взаимодействие между управлением рисками бедствий и адаптацией к изменению климата;
– мониторинг, развертывание научных исследований и др.
Таким образом, можно констатировать, что по многим прогнозам, влияние экстремальных климатических явлений, обусловленных флуктуациями климата, будет возрастать на протяжении XXI в., видимо, как сопутствующие элементы потепления. Большие экономические потери, к которым они могут привести, ставят вопрос о разработке мер адаптации к ним. Но помимо мер, уменьшающих потери и уязвимость систем от этих явлений, необходимо также рассматривать и варианты искусственного смягчения самого воздействия экстремальных явлений.
Terra Humana ¹ 2’2014
Список литературы О влиянии климатических флуктуаций на социально-экономическое развитие России
- Гладкий Ю.Н., Тимофеев А.Д. «Жаркое лето -2010» в России: о поиске причин и климатическом оружии//Общество. Среда. Развитие. -2012, № 3. -С. 210-215.
- МГЭИК, 2012 г.: Резюме для политиков Специального доклада по управлению рисками экстремальных явлений и бедствий для содействия адаптации к изменению климата [К.Б. Филд, В. Баррос, Т.Ф. Стокер, Д. Цинь, Д.Дж. Доккен, К.Л. Эби, М.Д. Мастрандрeа, К.Дж. Мэч, Дж-К. Платтнер, С.К. Ален, М. Тигнор, П. Миджлей (ред.) Специальный доклад Рабочих I и II Межправительственной группы экспертов по изменению климата. -Кэмбридж Юниверсити Пресс, Кэмбридж, СК и Нью-Йорк, шт. Нью-Йорк, США. -19 с.
- Оценка макроэкономических последствий изменений климата на территории Российской Федерации на период до 2030 г. и дальнейшую перспективу/Под ред. д. ф.-м. н. В.М. Катцова, д. э. н., проф. Б.Н. Порфирьева. -М.: Д’АРТ: Главная геофизическая обсерватория, 2011. -252 с.
- Hansen J., Satoa M., Ruedyb R. Perception of climate change//Proceedings of the National Academy of Science. -2012, August 6. -9 c. -Интернет-ресурс. Режим доступа: www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1205276109