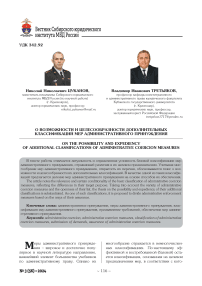О возможности и целесообразности дополнительных классификаций мер административного принуждения
Автор: Цуканов Н.Н., Третьяков В.И.
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Взгляд. Размышления. Точка зрения
Статья в выпуске: 3 (56), 2024 года.
Бесплатный доступ
В тексте работы отмечается актуальность и определенная условность базовой классификации мер административного принуждения, отражающей различия в их целевом предназначении. Учитывая многообразие мер административного принуждения, открытость их перечня, обосновывается тезис о возможности и целесообразности их дополнительных классификаций. В качестве одной из таких классификаций предлагается деление мер административного принуждения на основе способов их обеспечения.
Административное принуждение, меры административного принуждения, классификация мер административного принуждения, предъявление требований, обеспечение мер административного принуждения
Короткий адрес: https://sciup.org/140306986
IDR: 140306986 | УДК: 342.92
Текст научной статьи О возможности и целесообразности дополнительных классификаций мер административного принуждения
Меры административного принуждения – широкое и достаточно популярное в научной литературе направление, важнейший элемент большинства учебников по административному праву. Однако их многообразие отражается в немногочисленных классификациях. По-настоящему эффективной и востребованной (базовой) остается классификация, основанная на целевом предназначении мер, в соответствии с кото- рой среди мер административного принуждения принято выделять:
административно-предупредительные меры;
меры административного пресечения;
меры административно-процессуального обеспечения;
меры административной ответственности [9, с. 27].
Классификация эффективна в том числе в ситуациях, когда различные по своему предназначению, основаниям, субъектам применения меры принуждения имеют созвучные и даже идентичные названия, а также в случаях, когда способ принудительного воздействия может выступать элементом применения другой более объемной меры принуждения. Например, в соответствии с ч. 6 ст. 14 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ «О полиции» (далее – Закон о полиции) личный досмотр, досмотр вещей, документов, транспортного средства осуществляется в качестве элемента задержания [13, с. 11-12].
«Однако, – как справедливо отмечает А.И. Каплунов, – среди ученых-администра-тивистов нет единства мнений по следующим вопросам: во-первых, о необходимости выделения в составе административного принуждения мер административного предупреждения; во-вторых, о необходимости выделения административно-восстановительных мер; в-третьих, о целесообразности выделения в самостоятельную группу мер административно-процессуального обеспечения» [2, с. 178]. Перечень подобных вопросов можно продолжить. В частности, в юридической литературе высказывается предложение выделять административно-правовые средства принудительной помощи [10, с. 168-175]. В отличие от сферы уголовного судопроизводства, где принуждение принято ограничивать положениями 4 раздела УПК РФ [15, с. 167-200], в административно-правовой науке аналогичному термину придается гораздо более широкое значение. При этом для обозначения универсального метода управленческой деятельности, связанного с ограничением прав и свобод, термин «принуждение»
в общеупотребительном смысле этого слова, как представляется, не очень точно подходит. С одной стороны, принудить – означает вынудить, заставить кого-то выполнить определенные действия. Однако о применении данных мер принято говорить и в том случае, когда требуемое действие выполняет не физическое лицо, а представитель власти, например проникновение в жилище, в котором никто не находится. С другой стороны, мера присутствует и в том случае, если лицо добровольно выполняет предъявленное требование. При этом если принять за основу тезис о том, что убеждение и принуждение охватывают всю гамму методов государственного управления, то метод убеждения в привычном смысле этого слова (как разъяснение, воспитание и иные способы морально-нравственного воздействия) не носит правового характера. Поэтому в контексте административно-правовой тематики он не может служить полноценной альтернативой методу административного принуждения в качестве одного из двух универсальных методов [подр.: 16, с. 139-144]. Прав А.И. Каплунов, утверждая, что убеждение и государственное принуждение не противопоставляются в ходе осуществления государственного управления, а взаимодополняют друг друга, взаимодействуют между собой в ходе решения соответствующих управленческих задач [2, с. 165].
Базовая классификация мер административного принуждения отражает используемую современной наукой административного права парадигму, в основе которой лежит институциональный подход. Стоит отметить, что так было не всегда. Как отмечал российский правовед И.Т. Тарасов, «принуждение имеет место лишь там, где есть сопротивление» [14, с. 178-179]. В советской литературе дихотомия «убеждение-принуждение» также касалась, как представляется, не столько самих мер, сколько действий, связанных с их реализацией. Как указывал М.И. Еропкин, принудительные меры применяются лишь в том случае, если гражданин отказывается добровольно выполнить предъявляемое ему требование [8, с. 83]. Соответственно, если правонарушитель добровольно следовал в правоохранительный орган, то считалось, что мера административного принуждения к нему не применялась. Вполне последовательно Д.Н. Бахрах отмечал, что «не все методы полностью урегулированы правом. Так, принуждение полно, детально и четко охвачено правовыми нормами. Поощрение во многом основано на юридических актах, но возможно его использование и помимо юридической формы, а метод убеждения правом урегулирован лишь в небольшой части» [6, с. 263].
На сегодняшний день важным критерием меры административного принуждения служит прямое нормативное указание меры административного принуждения, а в идеальном случае – выделенное нормативное регулирование. Как отмечает А.И. Каплунов, «административное принуждение состоит из мер принуждения, которые регламентируются нормами административного и административно-процессуального права. Нормативно-правовая регламентация меры административного принуждения включает следующие элементы: 1) основания ее применения; 2) способ (прием, средство) и цели принудительного воздействия; 3) субъект, уполномоченный на ее применение; 4) порядок (административную процедуру) применения меры административного принуждения» [2, с. 177]. Этим можно объяснить выделение таких мер принуждения, как, например, требование прекратить противоправные действия (п. 1 ч. 1 ст. 13 Закона о полиции), покинуть место совершения преступления или административного правонарушения (п. 7 ч. 1 ст. 13 Закона о полиции), оставаться на месте совершения преступления или административного правонарушения (п. 4 ч. 3 ст. 28 Закона о полиции), и невыделение предъявления требования к понятому удостоверить своей подписью факт совершения в его присутствии процессуального действия, его содержания и результатов, хотя невыполнение такого требования также влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 17.7 КоАП РФ. Это важно, поскольку помимо требований, прямо перечисленных в законодательстве в качестве самостоятель- ных мер административного принуждения, нельзя отрицать существование требований, детализирующих реализуемое должностным лицом полномочие, носящих принудительный характер и не охватываемых п. 1 ч. 1 ст. 13 Закона о полиции. Например, требование убрать собаку, препятствующую проведению досмотра транспортного средства (ст. 27.9 КоАП РФ), обеспечить доступ в помещение в рамках его осмотра в соответствии ст. 27.8 КоАП РФ, дать свидетельские показания по делу об административном правонарушении (ч. 2 ст. 25.6 КоАП РФ).
Определенная условность базовой классификации мер административного принуждения может также проявляться в частичном совпадении их отдельных характеристик. Например, административные наказания применяются для предупреждения административных правонарушений (ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ), срок административного задержания засчитывается в срок административного ареста (ч. 3 ст. 32.8 КоАП РФ), одной из целей мер обеспечения производства по делам об административных правонарушений служит пресечение административных правонарушений (ч. 1 ст. 27.1 КоАП РФ), применение административно-предупредительных мер (например, медицинского освидетельствования (ст. 44 Федерального закона от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах») служит целям обеспечения производства по делам об административных правонарушениях и т.д.
Нередко к числу мер административного принуждения относят (как представляется, безосновательно) мероприятия, служащие нормативно определенным условием реализации лицом своего субъективного права. Типичным примером может служить предполетный досмотр (досмотр ручной клади и багажа пассажиров гражданских воздушных судов), предусмотренный ч. 1 ст. 85 Воздушного кодекса Российской Федерации. Важно отметить, что его проведение является условием реализации договора воздушной перевозки и не связано с возникновением правовой аномалии. Аналогичные примеры можно найти даже в решениях Конституционного Суда Российской Федерации1.
С учетом действующего законодательства (отсутствия прямого указания наименования групп мер принуждения) и практики высших органов судебной власти вариативность наименований отдельных групп мер административного принуждения вполне допустима. Например, в постановлении Конституционного Суда РФ от 29 июня 2012 г. N 16-П «По делу о проверке конституционности положения части десятой статьи 13 Федерального закона «Об оружии» в связи с жалобами граждан Г.В. Белокриницкого и В.Н. Тетерина» административно-предупредительной мерой именуется нормативный запрет, установленный федеральным законом. Соответственно, в имеющихся условиях решающее значение имеют аргументы учебно-методической направленности, поскольку классификация должна в максимальной степени способствовать охвату разнообразных проявлений исследуемой категории, систематизации фактов, с которыми обучающийся (в последующем – правоприменитель) столкнется.
Так, довольно популярный в научной литературе подход Д.Н. Бахраха, в соответствии с которым «принуждение применяется только к конкретным субъектам права, которые нарушили юридические нормы» [6, с. 378], вполне последовательно исключает возможность выделения мер административного предупреждения. Однако объективно существуют: а) задержание лиц, предпринявших попытку самоубийства либо имеющих признаки выраженного психического расстройства и создающих своими действиями опасность для себя и окружающих, – до передачи их в лечебные учреждения либо по месту жительства (п. 11 ч. 2 ст. 14 Закона о полиции), 2) проникновение в жилые помещения для установления обстоятельств несчастного случая (п. 4 ч. 3 ст. 15 Закона о полиции), 3) беспрепятственное проникновение лиц, проводящих контртеррористическую операцию, в жилые и иные принадлежащие физическим лицам помещения и на принадлежа- щие им земельные участки, на территории и в помещения организаций независимо от форм собственности для осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом (п. 11 ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 6 марта 2006 г. N 3-ФЗ «О противодействии терроризму»); принудительная госпитализация и лечение больных, страдающих психическим заболеванием и представляющих опасность для окружающих (ст. 29-36 Закона РФ от 2 июля 1992 г. N 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»), или больных наиболее опасными видами инфекционных заболеваний (ст. 33 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и т.д. При указанном подходе перечисленные и многие аналогичные меры оказываются не охваченными учебным курсом, при объективном существовании перечисленных инструментов не предлагаются специальные обобщающие термины и классификации.
При характеристике третьей группы мер административного принуждения многими авторами используется термин «меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях», в том числе в контексте утверждения его синонимичности мерам административно-процессуального обеспечения [3, с. 206-235; 5, с. 7-9; 12, с. 4]. Однако, как представляется, содержание последних не ограничивается сферой производства по делам об административных правонарушениях. Целям обеспечения административных производств могут служить также меры принуждения, предусмотренные ст. 68 Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», ст. 28.7 Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» и др.
Четвертая группа мер административного принуждения, как правило, связывается с административными наказаниями [3, с. 206235; 5, с. 7-9; 11, с. 161-165; 12, с. 476], хотя в научной и учебной литературе обычно не подвергается сомнению собирательный характер категории «ответственность по административному праву», дополнительно к административной охватывающей, как минимум, материальную и дисциплинарную ответственность отдельных субъектов [2, с. 472; 4, с. 269-300]. Возможно, более точным было бы использование термина «меры ответственности по административному праву».
Нет сомнений в том, что при имеющихся условностях, различиях в подходах к отдельным вопросам базовая классификация убедительно демонстрирует многообразие мер административного принуждения, наличие их системы с учетом критерия целевого предназначения и отсутствие повода говорить о закрытости их перечня. А в этих условиях вполне допустимы, уместны и целесообразны и иные, дополняющие, классификации, раскрывающие иные, пусть даже менее важные, аспекты системы мер административного принуждения.
Сегодня, как правило, в качестве дополняющих упоминаются те из них, которые отражают возможности реализации в судебном и внесудебном порядках, а также применения к физическим или юридическим лицам. В отношении первой из них интересно отметить, что А.И. Елистратов связывал административное принуждение с «возможностью для администрации прибегать к принудительным мерам по собственному почину, без предварительного судебного постановления, устанавливающего закономерность данного требования» [7, с. 561], то есть исключал саму возможность именовать такие меры мерами административного принуждения.
Наряду с простыми мерами административного принуждения, предполагающими однократное выполнение требования (отказ от совершения определенных действий), можно, как представляется, выделять комплексные, реализация которых может быть значительно растянута во времени и предполагает необходимость совершения целого ряда действий. Примером могут служить контроль за лицами, освобожденными из мест лишения свобод [1, с. 71], возложение на лицо обязанностей, предусмотренных ч. 2.1 ст. 4.1 КоАП РФ, либо связанных с реализацией представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения (ст. 29.13 КоАП РФ), принятие решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации и др.
Наряду с абсолютным большинством мер, носящих адресный характер, существуют те, которые ориентированы на неограниченный круг лиц, например временное ограничение или запрещение движения транспорта и пешеходов.
Многие меры административного принуждения связаны с предъявлением соответствующих требований должностных лиц, однако есть и такие, которые реализуются без предъявления требований, например, в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 19 Закона о полиции, при законном проникновении в жилище в отсутствие его владельца. При этом требования также могут быть предметом различных классификаций. Например, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 20 Закона о полиции сотрудник полиции вправе применять физическую силу «для преодоления противодействия законным требованиям сотрудника полиции». При этом такая возможность связана далеко не со всеми законными требованиями. Например, физическая сила может быть применена в случае отказа беспризорного малолетнего проследовать в отдел полиции (п. 1 ч. 2 ст. 21 Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних») и не может – в случае отказа лица пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, в случае отказа свидетеля по делу об административном правонарушении назвать свои фамилию, имя, отчество. В таких случаях нарушитель будет привлечен к административной ответственности, и применяемые к нему меры административного принуждение будут продиктованы именно этим фактом. Иным образом обеспечивается требование должностных лиц полиции уничтожить дикорастущие наркосодержащие растения. Здесь правонарушитель дополнитель- но сталкивается с перспективой возложения обязанности оплатить стоимость проведенных на его участке мероприятий.
В этом контексте представляется интересным и перспективным подход, предложенный И.Т. Тарасовым, который связывал возможность применения мер административного принуждения с «переходными моментами от распоряжения к принуждению», в числе которых называл: «1) приказание, 2) приказание с угрозой исполнения приказываемого за счет обязанного, 3) приказание с угрозой наказания, 4) приказание с угрозой физического принуждения» [14, 178-179].
В современных условиях подобную классификацию можно было бы представить в следующем виде:
– требования, обеспечиваемые мерами ответственности. К числу таких мер можно было бы отнести меры, предусмотренные ст. 44 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах», ст. 27.12-27.12.1 КоАП РФ, ч. 2.1 ст. 4.1 КоАП РФ, п.п. 2, 4 ч. 1 ст. 13 Закона о полиции и т.д.;
– требования, обеспечиваемые непосредственным ограничением прав и свобод (на- пример, при задержании, предусмотренном п. 11 ч. 2 ст. 14 Закона о полиции, при изъятии предметов, средств и вещей у малолетних при отсутствии данных о наличии законных оснований для их ношения и хранения);
– требования, обеспечиваемые комбинированным воздействием (например, требование прекратить административное правонарушение, совершаемое в форме действия, пройти в орган внутренних дел в случае применения задержания, уничтожить дикорастущие наркосодержащие растения и т.д.);
– действия, связанные с непосредственным ограничением прав и свобод (например, задержание транспортного средства (ст. 27.13 КоАП РФ), временное ограждение определенных мест и объектов (п. 6 ч. 1 ст. 13 Закона о полиции).
Можно предположить, что внимание к этому дополнительному аспекту может способствовать более глубокому изучению тематики мер административного принуждения как в научном, так и в учебно-методическом аспектах.
Список литературы О возможности и целесообразности дополнительных классификаций мер административного принуждения
- Административная деятельность полиции: учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. В.И. Майорова, канд. юрид. наук, доц. Р.Ю. Аврутина. – СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2024. – 576 с.
- Административное право: учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. А.И. Каплунова. – СПб., 2024. – 472 с.
- Административное право России: учебник и практикум для вузов / под ред. А.И. Стахова,
- П.И. Кононова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2021. – 484 с.
- Алехин, А.П. Административное право Российской Федерации: учебник / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий, Ю.М. Козлов. – М.: ЗЕРЦАЛО, 1996. – 680 с.
- Аникеенко, Ю.Б. Административно-деликтное право: учебное пособие / Ю.Б. Аникеенко, Н.В. Новоселова ; под общ. ред канд. юрид наук, проф. С.Д.Хазанова. – М.: ИНФРА-М, 2023. – 293 с.
- Бахрах, Д.Н. Административное право России: учебник / Д.Н. Бахрах. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Эксмо, 2006. – 528 с.
- Елистратов, А.И. Основные начала административного права / А.И. Елистратов // Российское полицейское (административное) право: конец XIX – начало XX века: хрестоматия / сост. и вступит. ст. Ю.Н. Старилова. – Воронеж: Издательство Воронежского государственного университета, 1999. – 624 с.
- Еропкин, М.И. Избранные труды / М.И. Еропкин ; под общ. ред. А.П. Шергина, В.Г. Татаряна. – М.: Эксмо, 2010. – 688 с.
- Каплунов, А.И. Административное принуждение, применяемое органами внутренних дел (системно-правовой анализ): автореф. дис. … докт юрид. наук/ А.И. Каплунов. – М., 2005. – 58 с.
- Лубенков, А.В. Административно-правовые средства принуждения: научно-методологические основы реализации сотрудниками органов внутренних дел Республики Беларусь: монография / А.В. Лубенков, А.И. Каранкевич. – Могилев: Могилевский институт МВД Республики Беларусь, 2018. – 330 с.
- Макарейко, Н.В. Административное право: учебное пособие для вузов / Н.В. Макарейко. – 10-е изд., перер. и доп. – М.: Юрайт, 2018. – 259 с.
- Общее административное право: учебник / под ред. Ю.Н.Старилова. – Воронеж: изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2007. – 848 с.
- Применение сотрудниками органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ отдельных мер административного принуждения: учебное пособие / Н.Н. Цуканов, А.В. Жильцов, А.Ю. Иванов [и др.]. – Красноярск: СибЮИ ФСКН России, 2015. – 204 с.
- Тарасов, И.Т. Очерк науки полицейского права / И.Т. Тарасов // Российское полицейское (административное) право: конец XIX – начало XX века: хрестоматия / сост. и вступит. ст. Ю.Н. Старилова. – Воронеж: Издательство Воронежского государственного университета, 1999. – 624 с.
- Уголовный процесс: учебник для вузов / под ред. Б.Б. Булатова, А.М. Баранова. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2019. – 567 с.
- Цуканов, Н.Н. К вопросу о приоритете метода убеждения / Н.Н. Цуканов, А.Н. Добров // Вестник Сибирского юридического института МВД России. – 2023. – N 4(53). – С. 139-144.