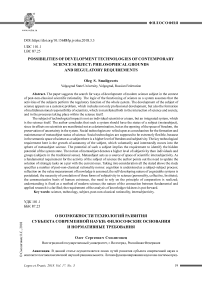О возможности технологий развития субъекта современной науки: философские основанияи нормативные требования
Автор: Смолиговец Олег Сергеевич
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 3 т.17, 2018 года.
Бесплатный доступ
В данной статье осуществляется поиск путей развития субъекта современной науки в контексте постнеклассической научной рациональности. Логика функционирования науки как системы предполагает, что деятельность субъектов исполняет по отношению к ней регулятивную функцию. Развитие субъекта науки предстает в качестве системной задачи, включающей не только повышение профессиональной квалификации, но и формирование многоаспектной ответственности ученых, которая проявляется как во взаимодействии науки и общества, так и в процессах, происходящих внутри самой науки. Предметом технологического воздействия становится не отдельный ученый или коллектив, а целостная система, которой является сама наука. Делается вывод о том, что такая система должна иметь статус субъекта (метасубъекта), поскольку ее воздействия на ученых проявляются не как детерминация, но как открытие пространства свободы, сохранение неопределенности в системе. Социальные технологии полагаются в качестве механизма формирования и поддержания метасубъектного статуса науки. Социальные технологии полагаются как предельно гибкие, потому что в смысловом пространстве науки как субъекта заключен более высокий уровень свободы и субъективности. Ключевым технологическим требованием здесь выступает рост автономии субъекта, который добровольно и заинтересованно переходит в сферу метасубъекта науки. Потенциал такого субъекта предполагает требование выявления скрытого потенциала состояния системы. Понятие метасубъекта обозначает более высокий уровень субъектности, нежели индивиды и коллективы (субъекты в традиционном смысле). Метасубъект выступает как пространство научной интерсубъективности. В качестве фундаментального требования к деятельности субъекта науки выделяется необходимость актуализации решения стратегических задач наравне с текущими. Кроме того, был уточнен ряд норм постнеклассической рациональности: познание рассматривается как субъект-субъектный процесс; предполагается рефлексия относительно ценностного измерения получаемого знания; постулируется саморазвивающийся характер познаваемых систем; утверждается необходимость соотношения трех форм субъектности в науке (личности, коллектива, института); осознается коммуникативная основа бытия человека, вводится принцип сотрудничества; закрепляется понимание как метод современной науки; утверждается связь фундаментальных и прикладных исследований, технологизация; выдвигается требование анализа рискогенности знания.
Наука, технология, субъект, постнеклассическая рациональность, интерсубъективность
Короткий адрес: https://sciup.org/149130345
IDR: 149130345 | УДК: 101.1 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2018.3.3
Текст научной статьи О возможности технологий развития субъекта современной науки: философские основанияи нормативные требования
DOI:
Современная наука, безальтернативно ставшая основной производительной силой общества, находится в сложных отношениях с субъектами научной деятельности: теперь это уже не простое описание объекта в нормах классической рациональности, в которых субъект сводится лишь к факту его сознания как понятийно-логическому «экрану», никак не воздействующему на предмет исследования. Сегодня нормой взаимодействия науки с объективной реальностью стала постнеклассическая рациональность, в которой субъекты исследуют свои объекты с учетом моральных позиций, культурно-ценностных ориентиров и господствующей в данную эпоху картиной мира. Как отмечает О.Ю. Есина: «[Постнеклассическая] научная рациональность переосмысливает отношение к человеку, осознавая роль деятельностного субъекта как неотъемлемой части социальной действительности, с которой он взаимодействует напрямую» [4, с. 37]. Поэтому науке для сохранения своей объективности важным становится соответствие ее собственного бытия в обществе тех свойств субъектов науки, которые обеспечивают и сохраняют это соответствие.
С. Тулмин, известный представитель современной философии науки, отмечает: «На- ука, рассматриваемая в качестве целостной человеческой инициативы, не является ни только компендиумом идей и аргументов, ни только системой институтов заседаний. В тот или иной момент интеллектуальная история научной дисциплины, институциональная история научной специальности и индивидуальных биографий ученых, очевидно, соприкасаются, взаимодействуют друг с другом... Следовательно, дисциплинарные (или интеллектуальные) и профессиональные (или человеческие) аспекты науки должны быть тесно взаимосвязанными, но ни один из них не может быть полностью первичным или вторичным по отношению к другому» [11, с. 305–306].
Как утверждает В.С. Степин, «стратегию развития современной (постнеклассической) науки определяет освоение сложных, са-моразвивающихся систем» [10]. В этом целостном пространстве (или системе) бытия науки «слабым звеном» оказываются ее субъекты: выступая как конкретный научный коллектив, им приходится решать не только сами научно-исследовательские задачи, но и постоянно учитывать те возможные негативные последствия для общества, которые могут вызвать полученные результаты. Безупречные в чисто логическом плане, эти результаты мо- гут воздействовать на общество как источник новых рисков и опасностей. По словам Р. Мертон, «нравы науки имеют методологическое рациональное оправдание, однако обязывающими они являются не только в силу своей процедурной эффективности, но и потому, что считаются правильными и хорошими» [6, с. 770]. Поэтому возникает новая функция – развитие субъектов современной науки, направленная на особую дополнительную «социализацию» этих субъектов, то есть на формирование их способности видеть и устанавливать формы «человеческого измерения» результатов научных исследований – социальные, моральные, экологические, культурные и др.
Здесь не имеется в виду очевидная задача постоянного повышения собственной профессиональной квалификации исследователей, хотя эти аспекты, конечно, включены в содержание рассматриваемой проблемы развития субъектов науки. Главное для нас – формирование социальной, моральной, профессиональной и гражданской ответственности ученых , которая возникает закономерно на основе освоения и осознания исследователями и их коллективами как сложности взаимодействия науки и общества, так и многомерности самой науки как системы. Возникает задача входа субъектов науки в особое пространство , в котором осуществляется их культурная, социальная, моральнонравственная «социализация».
Формирование такого пространства – весьма сложная задача, так как в нем должны существовать некоторые смыслы и реалии, способные воздействовать на сознание и установки субъектов науки, то есть изменять это сознание и его содержание. Но это значит, что в данных смыслах должен заключаться некий более высокий уровень свободы и субъективности , на который добровольно и заинтересованно переходят субъекты, так как не находят его в себе, осознавая потребность в освоении этого уровня: ведь он расширяет горизонт их мировоззрения, свободы, творчества, обеспечивает профессиональный и гражданский рост.
Является ли содержание этого пространства воздействия на субъектов нормативноидеальным, или в нем концентрируется осо- бая объективная реальность – целостность, законы, тенденции, системные связи и т. п., – действующая на сознание этих субъектов и его развитие, как особое концентрированное социальное бытие данного общества? Или здесь возникает их взаимодействие?
Прежде всего, выскажем предположение, что воздействие объективного материально и идеально (духовно) на сознание и поведение человека связано с полнотой бытия этих реальностей, которые выходят за рамки их охвата сознанием. В целом, статус такой объективности приобретают и различного вида нормы – социальные, моральные, культурные. Созданные в другие эпохи как стихийно-общественное обобщение разных видов опыта поколений, эти нормы содержат гораздо больше «единиц регулирования» и связей, чем те, которые «попадают» в сознание следующих им субъектов. Информационносмысловое содержание таких норм оказывается для субъектов «избыточным».
Действительно, обычный человек воспринимает любую моральную норму как нечто очевидное. Он не задумывается над тем, что в ней осуществляется процесс огромной сложности: неопределенность содержания в виде массовых хаотических процессов взаимодействий и типов поведения становится определенностью – согласованным поведением этих субъектов, позволяя осуществлять взаимопонимание, коллективные действия, разумное по смыслу общение, а также выделять приоритет общих интересов и норм порядка над любыми частными побуждениями и стремлениями.
Хотя моральные нормы идеальны, они все же остаются объективными, поскольку не существуют в фиксируемом чувствами предметном выражении. Однако есть и материально выраженные объективные процессы: развитие производственных отношений, зависимость общественной жизни и ее организации от роста населения, фундаментальные свойства данной общественно-экономической формации и др. Они воздействуют на сознание субъектов именно как способ существования этих субъектов в обществе. Последние не могут осознанно и радикально конструировать объективность своего бытия, хотя и воз-действовуют на условия (выбирют предпочи- таемые общественные отношения и развивают их, как бы «блокируя» другие, менее связанные с их интересами и целями), что в результате меняет и сами формы бытия общества. Этот выбор постоянно включен в общее направление видов деятельности, которые выполняют субъекты: он не возникает как специальная задача.
Таким образом, задача развития субъектов науки предполагает создание таких среды или пространства, в которых концентрируются средства воздействия на их сознание, превращающие общество в особый «предмет» постижения для ученых. Э тот «предмет» для них открывается как «метасубъект» , поскольку начинает регулировать сознание и поведение исследователй, как освоение его собственного содержания и связанных с ним ценностей и смыслов более высокого уровня сложности и объективности. Хороший пример бытия такого метасубъекта приводит Х.-Г. Га-дамер в своей концепции языка как источника формирования понимания в процессе общения субъектов: «Человек, живущий в мире, – пишет он, – не просто снабжен языком как некоторой оснасткой – но на языке основано и в нем выражается то, что для человека вообще есть мир... Не только мир является миром лишь постольку, поскольку он получает языковое выражение, – но подлинное бытие только и состоит в том, что в нем выражается мир... Иметь мир – значит иметь отношение к миру. Но отношение к миру требует такой свободы от того, что встречается нам в мире, которая позволила бы нам ставить это встречающееся перед собою таким. Каким оно есть. Эта возможность представления означает одновременно обладание миром и обладание языком» [1, с. 512–513].
В этом случае язык выполнят функцию такого субъекта, который выделяется из реальности (мира) и вместе с тем формирует отношение к миру. Здесь также определенно подразумевается, что восприятие реальности человеком не является «изначальным», но определено языком как особой формой бытия (метасубъекта), в которой нам открывается и сам мир. При этом реальность фиксируется как бы «сквозь» языковые структуры и значения, которые сами по себе не выступают для человека объектом отношения. Они от- крываются в этом аспекте лишь тогда, когда начинают служить препятствием для коммуникации, понимания, или осмысленного восприятия реальности.
Таким образом, отмеченное здесь пространство воздействия на субъекты науки в целях их собственного развития должно иметь статус субъекта, поскольку оно моделирует способность субъекта формировать отношение к реальности и вместе с тем – отделяться от нее. Кроме того, эта способность формирует отношение субъектов к самим себе. Именно в этом плане воздействие субъекта на других субъектов оказывается принципиально иным, чем функционально и на основе смыслов организованной совокупности предметов и их связей воздействие внешней среды. Объекты действуют на субъекты преимущественно как внешняя необходимость, требующая адаптации или учета рамок и характера ее влияния. Но воздействие субъекта – это открытие пространства нового уровня свободы , к которому добровольно и заинтересованно «примыкают» другие субъекты – те, которые воспринимают такое воздействие. Вместе с этой новой свободой возникает и расширение кругозора, понимания, появляется более глубокое самосознание и обязательно развивается чувство ответственности, как осознание последствий реализации приобретенной свободы.
Формирование модели пространства, представляющего уровень метасубъекта – сложная задача, требующая включения проектно-обучающей деятельности с аспектами социализации, формирования мировоззрения и культуры и опирающейся на социальные технологии . Последние, при всем своем современном разнообразии, до сих пор не имеют однозначного определения и трактовки. Их связывают с формированием цепочки некоторых выделенных «единиц», или алгоритмов, которые позволяют достичь заданных результатов, с исследованием потенциала социального пространства и социальных отношений, с восстановлением балансов в социальном пространстве, рассматривают как средство социального управления и др.
Есть несколько подходов к определению социальных технологий. В дискуссиях относительно соотношений между социальными и естественнонаучными технологиями часто прослеживается тенденция в интерпретации социальных технологий как обслуживающих естественнонаучные. В.Г. Горохов утверждает: «Экспериментальные объекты и процессы, воплощаясь в новых технологиях и в хозяйственных структурах, становятся частью социальной реальности и в этом качестве – объектами исследования социально-гуманитарных, а не естественных и технических наук» [2, с. 121]. То есть социальная технология – это адаптация естественнонаучной технологии в социокультурном контексте.
Защитники самобытного статуса социальных технологий, как правило, фиксируют предметную специфику последних. В.Н. Иванов и В.И. Патрушев рассматривают социальную технологию как процесс оптимизации социального пространства, преодоления его разбалансированности на основе инновационного метода освоения социальной действительности, активного воздействия на развитие социальных систем с использованием социальных технологий (глобальных, внедренческих, обучающих, информационных и др.), которые позволяют включить в процесс его усвоения не только познание и методы социальной диагностики, но и активные способы его изменения, мотивизации, обучения, инно-вирования как субъектов управления, так и социальных систем в целом [5, с. 4].
В «Энциклопедическом социологическом словаре» выделяют такие аспекты социальных технологий, как «совокупность приемов, методов и воздействий, применяемых для достижения поставленных целей в процессе социального планирования и развития, решения разного рода социальных проблем» [9, с. 372].
Существуют также подходы, говорящие об обратном влиянии гуманитарной и социальной сферы на номотетические науки и исходящие из них технологии. Как справедливо утверждает И.И. Гусева, движение номотети-ческих наук к индивидуализации есть не просто поиск новой «точки сборки», но раскрытие новых горизонтов в изучении социального бытия. «Произошла легитимация индивидных форм социального; для того чтобы исследовать эту вновь открытую конкретность человеческого мира, понадобились другие мето- ды. Так появилась “качественная”, или “гуманистическая”, социология» [3, с. 35].
Несмотря на все эти технологические достижения, возникает вопрос: если субъект представляет собой некоторое целое, не сводимое к совокупности приемов и методов его достижения, каким же образом можно смоделировать его пространство, выражающее такую целостность?
Здесь открывается другая сторона, которая не раскрыта в социальных технологиях, но непосредственно к ним примыкает: внутренняя субъектность текстов, жанров, форм художественной культуры – литературы, искусства и др. Эта субъектность проявляется через используемый язык, в котором выражается позиция автора, мировоззрение и ценности эпохи, типы и мотивы действующих героев и др. Произведения воздействуют на читателя именно потому, что в них выражен «метасубъект» – более высокий уровень субъектной позиции, выступающий как интерсубъективность .
А.П. Огурцов, уточняя содержание концепта интерсубъективности, приходит к пониманию его как континуума перехода между научным творчеством индивида, групповыми представлениями, общественно-признанными фактами и объективированным знанием, причем началом интерсубъективности считается именно микросообщество. Противопоставления исследуемых понятий «объективность», «коллективность» и «интертекстуальность» – позволяют глубже понять специфику исследуемого основания субъектности в науке. Противопоставление интерсубъективности и объективности подчеркивает, что знание всегда рождается в коммуникативных взаимодействиях индивидов. Объективное здесь стоит понимать как знание, наделенное статусом существования через сопоставление идеальной объяснительной модели с объективным феноменом или процессом. Противопоставляя интерсубъективность и коллективность, Огурцов не уделяет внимание разграничению коллектива и социального института, по его мнению, все это – проявления коллективности. Более того, в данном вопросе он ограничивается лишь манифестацией: «Необходимо освободить интерсубъективность от отождествления с коллективностью, с солидарным це- лым, которое обладает статусом реального существования» [7, с. 242]. Мы согласимся с данным суждением, поскольку неправомерно отождествлять форму бытия субъектов с той средой, которая оформляется на их основе. Противопоставление интерсубъективности и интертекстуальности Огурцова еще раз подчеркивает то, что первая не существует автономно, как некая бессознательная структура, вне субъектов, за ним. «Интерсубъективность – это сфера “между”, порожденная взаимодействием ученых, не совпадающая ни с интенцией индивидуальных инноваций, ни с объективностью» [7, с. 244].Таким образом, можно сделать выводы о научной интерсубъективности как объединяющей основе развития самого знания и о субъектном основании последнего. Именно интерсубъективность детерминирует связи между формами научной субъектности.
Какова же ее структура? Н.В. Петракова предлагая свою модель структурирования интерсубъективности в творчестве М. Бубера, связывает ее с тремя исследуемыми нами формами субъектности и выделяет три уровня:
-
1) экзистенциально-феноменологический;
-
2) культурно-символический;
-
3) институционально-нормативный [8, с. 110–111].
Основанием для выделения этих уровней служит характер опосредованности коммуникаций, которые, соответственно, являются не опосредованными, опосредованными языком и опосредованными рыночными механизмами. Приняв эту структуру вне связи с исследованием вышеупомянутого автора, мы видим, что каждый уровень соответствует определенной субъектной форме – личности, группе и институту. Соответственно, логика индивидуального научного творчества, диалога в научном коллективе и следование научным нормативам представляют собой логику построения надындивидуальных связей в научном сообществе, то есть интерсубъективности.
Кроме сложной структуры коллективных субъектов научной деятельности, в построении модели метасубъектного пространства необходимо учитывать те требования к субъектам научного исследования, которые заложены в постнеклассическом типе рациональности. Сюда входит стиль мышления, научная и со- циокультурная картина мира, статус самого процесса познания и науки в обществе и др. Важным требованием также является сохранение истинности получаемых научных результатов, несмотря на сложную интерсубъективную «ткань» взаимодействий индивидов и коллективов с предметом исследования.
Важной задачей социально технологического формирования нового уровня самосознания субъектов науки является личностная и коллективная мировоззренческая позиция, направленная на служение своей стране, на стремление участвовать в решении возникающих здесь проблем. Исследователи должны видеть не только ближние, но и дальние перспективы, ориентироваться на их достижение, причем не только в направлении «от ближнего – к дальнему», но и наоборот – «через дальнее – к ответственному и всестороннему освоению ближнего», то есть проведение конкретных исследований всегда должно осознаваться в контексте того, что решение и отдаленных задач также актуально, как и текущих .
В этом аспекте примером подлинно ответственной научной позиции является деятельность С.П. Королева – руководителя творческого, научного и производственного коллектива, совершившего исторический рывок в отечественной космонавтике. Несмотря на давление военных, которые требовали решать в первую очередь вопросы обороны страны, то есть реагировать на задачи сегодняшнего дня, Королев никогда не упускал из виду стратегической цели – космических перспектив СССР. Формирование субъектов современной науки – это способность ученых постоянно выходить за рамки современности, осваивать будущее с позиций единства науки, культуры и гуманизма.
Основой освоения метасубъектного пространства являются не просто технологии или особые методы обучения, но в первую очередь – межсубъектный диалог – взаимодействие научных коллективов, как и отдельных сотрудников в одном коллективе на основе того нормативно-ценностного содержания (или контекста), в котором открывается само метасубъектное пространство действий, оценок, принятия решений, осуществления выбора и др.
Таким образом, основанием развития современного субъекта науки является освоение всей полноты содержания и нормативности постнеклассической рациональности, в которую входят:
-
1) Тесная связь субъекта с объектом познания.
-
A. Познание как субъект-субъектный процесс.
-
B. Рефлексия относительно ценностного измерения получаемого знания.
-
C. Саморазвивающийся характер познаваемых систем.
-
2) Окончательное преодоление «гносеологической робинзонады».
-
A. Необходимость соотношения трех форм субъектности: личности, коллектива, института.
-
B. Осознание диалогизма как основания бытия человека, необходимости опоры на принцип сотрудничества.
-
C. Закрепление понимания как метода современной науки.
-
3) Проблематизацию освоения знания.
-
A. Связь фундаментальных и прикладных исследований, технологизация
-
B. Анализ рискогенности знания.
Все описанные аспекты выражают тенденцию не к снятию субъекта, а к его целостному пониманию. Во-первых, трансформируется современная наука: она существует как диалог на стыке сфер науки и культуры. Во-вторых, основания социального бытия людей все чаще раскрывается в контексте понятий сотрудничества, в противовес представлениям о хаосе и конкуренции, как залоге развития. В-третьих, актуализируется вопрос о единстве субъектной формы бытия общества. Наука все чаще воспринимается как ресурс, определяющий характер развития общества в стратегической (фундаментальные исследования), тактической (прикладные исследования) и в практической (продуцирование технологий, внедрение в производство) областях. В такой ситуации она не может восприниматься как изолированная область социума, процессы в которой никаким образом не отражаются на ее социокультурной среде. Институциональное признание подобного статуса современной науки на государственном уровне является симптомом того, что ее вышеописанные характеристики уже стали явью и необходимость выйти на соответствующие позиции – это неоспоримый факт. «Научно-технологическое развитие Российской Федерации – трансформация науки и технологий в ключевой фактор развития России и обеспечения способности страны эффективно отвечать на большие вызовы» [12] – с такого тезиса начинается Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, и подобное планирование предполагает необходимость передовых социальных трансформаций, которые выводят науку и ее субъект за собственные пределы. Однако описание актуальности развития субъекта современной науки – это лишь преддверие поиска направлений технологического воздействия на науку.
В нашем подходе социальные технологии – это направления, регулирующие опыт и содержание деятельности субъектов исследования, которые осуществляются в пространстве метасубъекта. Здесь совмещается диалог, сотрудничество, с одной стороны, и нравственно-культурное, социально-гражданское развитие самих ученых – с другой. Основная деятельность ученых проходит в научных коллективах, представляющих собой достаточно сложное субъектное образование, в котором существует несколько уровней субъектности: личностный, коллективный, организационный, институциональный, профессионально-квалификационный и др. Поэтому возникают и различные внутриколлективные отношения субъектов, и межколлективные научные связи. Но эта групповая субъектность в науке сохраняет личностный характер. Соавторство всегда персонифицировано, то есть личное участие в совместном научном исследовании явно; научный кружок представляет собой малую социальную группу, лишенную какой бы то ни было анонимности. Сохраняется эта ситуация и в такой устойчивой форме научного сообщества, как научная школа, хотя во многом «лицом» группы выступает лидер или преемник. Однако научная группа – это также не предельный уровень субъектности в науке. Все многообразные научные сообщества и индивиды, включенные в них, находятся в универсальной среде – науке как социальном институте, данном нам в форме организаций и учреждений.
Важно подчеркнуть, что развитие субъектов научной деятельности – не толь- ко расширение их мировоззрения и усиление значения социальной ответственности. Эти-субъекты меняют научную среду: она не только становится неотъемлемой частью социальной жизни и требований общества, но и задает параметры и нормы системы образования, выступает как «штаб» передовых идей и технологий, как носитель высоких отечественных традиций в науке. Такими интегральными основами соединения науки и культуры, науки и общества, а также являются социальные технологии, которые в данном аспекте выявляют скрытый потенциал самого общества, его связей, лишь частично освоенный и «объективированный» академической наукой.
Поэтому дальнейшие исследования процесса и содержания, необходимых для развития субъектов современной науки, являются актуальными и перспективными.
Список литературы О возможности технологий развития субъекта современной науки: философские основанияи нормативные требования
- Гадамер, Х.-Г., Истина и метод: Основы философской герменевтики: пер. с нем. / Х.-Г. Гадамер; общ. ред. и вступ. ст. Б. Н. Бессонова. - М.: Прогресс, 1988. - 704 с.
- Горохов, В. Г. Понятие "технология" в философии техники и особенность социально-гуманитарных технологий / В. Г. Горохов // Epistemology & Philosophy of Science. - 2011. - № 2. - С. 110-123.
- Гусева, И. И. О современных тенденциях дисциплинарной организации социально-гуманитарных наук / И. И. Гусева // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. - 2017. - № 12 (86), ч. 3. - C. 32-35.
- Есина, О. Ю. Проблема эмпирического субъекта и типы рациональности / О. Ю. Есина // Известия Саратовского университета. Серия: Философия. Психология. Педагогика. - 2011. - Т. 11, вып. 3. - C. 35-37.
- Иванов, В. Н. Инновационные социальные технологии государственного и муниципального управления / В. Н. Иванов, В. И. Патрушев. - М.: Экономика, 2001. - 327 с.
- Мертон, Р. Социальная теория и социальная структура / Р. Мертон. - М.: ACT: ACT МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2006. - 873 с.
- Огурцов, А. П. Интерсубъективность как проблема философии науки / А. П. Огурцов // Философия науки и техники. - 2009. - № 1. - С. 235-246.
- Петракова, Н. В. Структура межчеловеческого отношения в философии М. Бубера / Н. В. Петракова // Вестник БГУ. - 2017. - № 5. - С. 109-116.
- Социологический энцилопедический словарь / под ред. Г. В. Осипова. - М.: НОРМА, 2000. - 482 с.
- Степин, В. С. Научная рациональность в техногенной культуре: типы и историческая эволюция / В. С. Степин // Вопросы философии. - 2012. - № 5. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: http://vphil.ruindex.php?option=com_content&task=view&id=533&Itemid=5 (дата обращения: 18.09.2018).
- Тулмин, С. Человеческое понимание: пер. с англ. / С. Тулмин; общ. ред. и вступ. ст. П. Е. Сивоконя. - М.: Прогресс, 1984. - 327 с.
- Указ Президента РФ от 01.12.2016 № 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации». - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 18.09.2018).