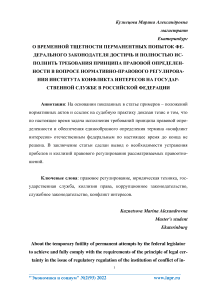О временной тщетности перманентных попыток федерального законодателя достичь и полностью исполнить требования принципа правовой определенности в вопросе нормативно-правового регулирования института конфликта интересов на государственной службе в Российской Федерации
Автор: Кузнецова М.А.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Рубрика: Актуальные вопросы политики и права
Статья в выпуске: 2-1 (93), 2022 года.
Бесплатный доступ
На основании показанных в статье примеров - положений нормативных актов и ссылок на судебную практику доказан тезис о том, что по настоящее время задача исполнения требований принципа правовой определенности и обеспечения единообразного определения термина «конфликт интересов» отечественным федеральным по настоящее время до конца не решена. В заключение статьи сделан вывод о необходимости устранения пробелов и коллизий правового регулирования рассматриваемых правоотношений.
Правовое регулирование, юридическая техника, государственная служба, коллизия права, коррупционное законодательство, служебное законодательство, конфликт интересов
Короткий адрес: https://sciup.org/140292643
IDR: 140292643
Текст научной статьи О временной тщетности перманентных попыток федерального законодателя достичь и полностью исполнить требования принципа правовой определенности в вопросе нормативно-правового регулирования института конфликта интересов на государственной службе в Российской Федерации
Системность, точность, внутренняя и лексическая непротиворечивость национального законодательства есть правовой идеал, которому стремятся все страны миры. Для Российской Федерации вопросы совершенствования юридической техники и языка права являются предельно актуальными.
Базовым условием надлежащей организации правотворческого процесса является учёт и исполнение ключевых правовых принципов при формировании и конструировании норм права.
Без какого-либо преувеличения, справедливым будет утверждение о том, что важнейшим из всех известных правовых принципов является «принцип правовой определенности, который в свою очередь, по справедливому замечанию Конституционного Суда Российской Федерации, «является частью нормативного содержания конституционного принципа верховенства права» [1].
Внимательный анализ сложившейся к сегодняшнему дню практики международных судов и арбитражей позволяет говорить о том, что принцип правовой определенности (principle of legal certainty) признается общепризнанным принципом международного права.
По общему правилу, принцип правовой определенности включает в себя, но не исключительно, следующее: нормативные акты должны быть опубликованы, должны быть ясными и точными, решения судов должны быть обязательными и исполняться, обратная сила нормативных актов должна устанавливаться в исключительных случаях, законные интересы и ожидания сторон должны быть защищены [2].
Иными словами, принцип правовой определенности, будучи одним из важных общих принципов права и признаваемый в таком качестве Судом Справедливости Европейского Союза и Европейским судом по правам человека, представляет собой широкую концепцию, стержнем которой является предсказуемость правового регулирования. Одновременно, как было сказано, принцип правовой определенности является неотъемлемой составляющей взаимосвязанных принципов верховенства закона и правового государства, провозглашенных в статьях 1, 15 и 55 Конституции Российской Федерации [3].
По смыслу последовательно высказываемых Конституционным Судом позиций «неоднозначность, неясность и противоречивость регулирования недопустимы, поскольку, препятствуя надлежащему уяснению его содержания, открывают перед правоприменителем возможности неограниченного усмотрения, ослабляющего гарантии конституционных прав и свобод» [4], [5], [6].
Общественная опасность несоблюдения принципа правовой определенности в процессе правотворчества заключается в том, что неопределенность содержания правовой нормы, не будучи в состоянии обеспечить ее единообразное понимание, а значит, и применение, ослабляет гарантии защиты конституционных прав и свобод, может привести к нарушению принципов равенства и верховенства закона; поэтому самого по себе нарушения требования определенности правовой нормы, влекущего ее произвольное толкование правоприменителем, достаточно для признания такой нормы не соответствующей Конституции Российской Федерации [7], [8], [9], [10].
Обширная отечественная судебная практика в области публичных правоотношений в целом и служебно-административного законодательства в частности показывает, что неэффективность нормативно-правового регулирования служебных правоотношений, правоотношений по поводу противодействия коррупции на государственной службе во много порождается неопределенностью содержания правовой нормы. Законодателем нередко допуская избыточно широкое усмотрение в процессе правоприменения, а сами законоположения, содержащие такого рода дефекты, с неизбежностью влекут не только нарушение принципов равенства и верховенства закона, но и гарантий государственной, в том числе судебной, защиты прав, свобод и законных интересов государственных служащих, чиновников, должностных лиц и т.д.
В сферу научных интересов автора настоящей статьи входят вопросы исследования правовой природы института конфликта интересов на государственной службе в целом, а также вопросы совершенствования правового регулирования предотвращения и урегулирования конфликта интересов на государственной службе в частности.
Сочетание двух названных аспектов естественным образом породило идею короткого научного исследования, предлагаемого в рамках настоящей статьи – осуществить попытку наглядной демонстрации перманентных попыток федерального законодателя достичь и полностью исполнить требования принципа правовой определенности в вопросе нормативно-правового регулирования института конфликта интересов на государственной службе в Российской Федерации.
Конфликт интересов является одним из ключевых институтов действующего отечественного служебного законодательства о законодательства противодействии коррупции, который лежит в основе понимания и квалификации коррупционных действий, от которого во многом зависит эффективность профилактики коррупционной деятельности.
Значение и роль института конфликта интересов как базового элемента 4
системы служебного и антикоррупционного законодательства заключается в том, что его применение носит чрезвычайно важное значение во всех сферах государственного управления, поскольку возникновение конфликта интересов может повлиять на законность и эффективность принимаемых публичными служащими государственных решений [11]. Именно от эффективности действий по минимизации конфликтного потенциала власти во многом зависят успех и результативность процесса модернизации публичной власти в целом в Российской Федерации [12]. Общественная и социальная значимость существования института конфликта интересов, породившая его имплементацию в отечественную правовую системы, заключается в том, что предотвращение и урегулирование конфликта интересов на государственной службе способствует недопущению возникновения общественного недовольства по поводу фактов обнаружения корыстного и недобросовестного поведения должностных лиц. Иными словами, существование легальных каналов и правовых механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов способно обеспечить как стабильность государственного управления, так и недопущение социальных волнений и взрывов.
Последние десятилетия отечественный федеральный законодатель последовательно двигался по пути унификации понятия конфликта интересов для различных сфер государственного управления. Мотивами подобной тщательной правотворческой работы было в том числе - стремление исполнить требование принципа правовой определенности.
В результате системной законотворческой деятельности понятие конфликта интересов в наиболее общем виде было закреплено в статье 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [13] (далее по тексту настоящей статьи также «Закон о противодействии коррупции, Федеральный закон № 273-ФЗ»). Легальное определение рассматриваемого термина звучит следующим образом: «под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий)».
Однако, проблемная ситуация заключается в том, что правовая категория конфликта интересов, имея первоочередное значение именно для антикоррупционного законодательства, одновременно тесно вплетена в тезаурус совершенно различных по правовой природе общественных отношений права, пребывая в нормативных правовых актах различной отраслевой принадлежности. Подобное решение законодателя в правоприменительной практике ежедневно создает тысячи коллизий и очевидным образом по-прежнему противоречит принципу правовой определенности.
Более того, вплоть до 2015 года в Трудовом кодексе РФ [14], Федеральном законе от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» [15] и Федеральном законе от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» [16] были закреплены вообще самостоятельные - собственные определения понятия «конфликта интересов».
В настоящее время нормы о конфликте интересов продолжают пребывать в ранее названных положениях статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», положениях статьи 75 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [17], статье 19 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» [18], подпункте 33 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [19], а также целом ряде иных нормативных правовых актов. По замыслу законодателя в каждом таком законе правовая категория «конфликт интересов» выполняет свою правовую функцию , связанную со сферой регулирования того или иного нормативного правового акта.
Стремясь преодолеть сложившуюся ситуацию, законодателем в 2015 году была предпринята не одна попытка унификации и синхронизации рассматриваемой категории. Вновь принятым Федеральным законом от 5 октября 2015 г. № 285-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления обязанности лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц сообщать о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов» [20] внесены существенные изменения в антикоррупционное законодательство в части одного из его ключевых понятий -«конфликт интересов». Статьей 10 Закона № 285-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ, в котором ст. 10 «Конфликт интересов» и ст. 11 «Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов» были изложены в новой редакции.
Несмотря на то что дефиниции, закрепленные в трудовом и служебном законодательстве, принципиально не отличались от определения термина «конфликт интересов», закрепленного в ч. 1 ст. 10 Закона о противодействии коррупции, с принятием Федерального закона от 5 октября 2015 г. № 285 -ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления обязанности лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц сообщать о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов», они были заменены единообразной отсылкой к Федеральному закону № 273-ФЗ.
Как отмечает А.В. Шалаев, «такое решение законодателя было обусловлено необходимостью преодоления двойственности в правовом реагировании предотвращения конфликта интересов государственных и муниципальных служащих, с одной стороны, и работников госкорпораций - с дру- 7
гой» [21]. В специальной литературе отмечается, что указанные изменения, прежде всего, были продиктованы актуальной потребностью правоприменительной практики в универсализации института конфликта интересов, упрощении процедуры установления наличия конфликта интересов и разрешении ряда правовых коллизий, связанных с реализацией соответствующих положений законодательства о противодействии коррупции.
В качестве несомненного достоинства нового подхода к понятию конфликта интересов (в редакции Закона № 285-ФЗ) следует отметить сокращение самого термина - ранее использовавшийся термин «конфликт интересов на государственной службе» сокращен более чем вдвое (путем исключения слов «на государственной службе»).
По замыслу законодателя и предварительным оценкам отечественных правоведов указанное изменение должно было позволить сделать более понятным антикоррупционное законодательство, и без того загроможденное замысловатыми многословными терминами [22].
По мнению автора настоящей статьи, цель законодателя во многом была достигнута, так как обновленная дефиниция стала обладать умеренно достаточной степенью универсальности, требуемой для применения определяемого термина в смежных отраслях законодательства, таких как законодательство о государственной и муниципальной службе, трудовое законодательство, законодательство о государственных корпорациях и др.
Закрепление унифицированного понятия конфликта интересов в сфере осуществления публичной власти, несомненно, является положительным фактом , однако недостатком соответствующей дефиниции , как отмечается известными юристами [23], стала неясность круга должностных лиц, на которых она распространяется.
Вместе с тем, по мнению автора настоящей статьи, задача исполнения требований принципа правовой определенности и обеспечения единообразного определения термина «конфликт интересов» до конца так и не была решена . Так, на сегодняшний день собственное, отличное от дефи- 8
ниции , данной в Федеральном законе № 273-ФЗ, определение понятия «конфликт интересов» содержится в Федеральном законе от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [24]. Исходя из подп. 9 п. 1 ст. 31 указанного Закона « под конфликтом интересов понимается наличие брачных и родственных связей двух лиц, одним из которых является руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий, а другим - руководитель (член коллегиального исполнительного органа и т.п.) участника закупки». Как видно, рассматриваемая дефиниция принципиально отличается от определения, закрепленного в ч. 1 ст. 10 Закона о противодействии коррупции, и описывает, по мнению автора настоящей статьи, не столько саму ситуацию конфликта интересов, сколько те фактические условия, в которых она может возникнуть. Подобные разночтения могут стать (и становятся) основой для обширных злоупотреблений в правоприменительной практике.
С учетом сказанного автор настоящей статьи с необходимостью вынужден констатировать по-прежнему наличествующий факт существования крайне сложной системы служебного и антикоррупционного законодательства в части формирования института конфликта интересов, «разбросанного» по различным нормативным правовым актам. Кроме того, анализ содержания массива правовых актов, регулирующего институт конфликта интересов в совокупности позволяет констатировать крайне неодинаковые последствия конфликта интересов в законодательных актах различной отраслевой принадлежности.
Соответственно, приведенные примеры демонстрируют (доказывают) и непоследовательность и временную тщетность действий федерального законодателя по повсеместному внедрению института конфликта интересов в публичном секторе.
На основании изложенного автор настоящей статьи приходит к выводу 9
о том, что действующее законодательство в рассматриваемой сфере по-прежнему допускает различные толкования термина «конфликта интересов». Подобные противоречия существенным образом влияют на правовой статус субъектов права, что нарушает принцип правовой определенности.
Подводя итог рассматриваемому вопросу необходимо подчеркнуть, что, с одной стороны, законодателем был взят правильный курс на внедрение в отечественное правовое поле института конфликта интересов. Весьма логично и целесообразно было внедрение данного института на базе системообразующего Федерального закона «О противодействии коррупции», что должно было обеспечить унифицированный подход к урегулированию конфликта интересов в сфере реализации публичной власти. С другой стороны, с неизбежностью приходится констатировать и то, что унификация законодательства не охватила всех сфер реализации публичной власти, что послужило основой для появления ряда юридических коллизий.
Безусловно, сам по себе принцип правовой определенности, обязывающий федерального законодателя формулировать административноправовые предписания с достаточной степенью четкости, позволяющей лицу сообразовывать с ними свое поведение - как дозволенное, так и запрещенное - и предвидеть вызываемые им последствия, не исключает введения в административное, служебное, трудовое, антикоррупционное законодательство юридических конструкций бланкетного характера, которые для уяснения используемых в нем терминов и понятий требуют обращения к нормативному материалу иных правовых актов.
Однако, фактически сформированная сложно выстроенная система антикоррупционного законодательства характеризуется огромным недостатком – наличием необоснованно широкого массива разноуровневых подзаконных актов, регулирующих правоотношения в рассматриваемой сфере.
Кроме того, сама принятая законодателем терминология в сфере предотвращения и урегулирования конфликта интересов, как было показано, не отвечает в полном объеме критериям принципа правовой определенности 10
– для правоприменителя по-прежнему остается неясным, какими именно актами устанавливается фактическая обязанность по урегулированию конфликта интересов в отношении тех или иных должностных лиц. В ряде ситуаций даже суду проблематично абсолютно достоверно установить, на какой круг лиц данные нормы распространяются в принципе.
В конечном счете, в совокупности, сложившаяся ситуация препятствует первичной цели правового регулирования рассматриваемых правоотношений – эффективному и результативному противодействию коррупции.
В заключение статьи её автор приходит к логичному, справедливому и весьма, как представляется, закономерному выводу о том, что описанная ситуация требует скорейшей реакции со стороны законодателя в части максимально оперативного устранения выявленных недостатков и, как следствие, купированию негативных процессов и тенденций, неизбежно возникающих в сфере реализации публичной власти в силу имманентно ей присущего высокого конфликтного потенциала.
Санация и синхронизация отечественного законодательства должна по-прежнему осуществляться таким образом, чтобы в её основе лежала задача достижения абсолютной правовой определенности, то есть ситуации, в которой не только норма права станет предельно понятна как для суда, ученых и экспертов, так и для субъектов права, для правоприменителей, но и будет полностью исключена возможность нарушения прав заинтересованных лиц.
Список литературы О временной тщетности перманентных попыток федерального законодателя достичь и полностью исполнить требования принципа правовой определенности в вопросе нормативно-правового регулирования института конфликта интересов на государственной службе в Российской Федерации
- Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2005 № 9-П "По делу о проверке конституционности положений статьи 113 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Г.А. Поляковой и запросом Федерального арбитражного суда Московского округа". Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс".
- Решение Суда ЕврАзЭС от 10.07.2013 "О применении статей 5, 6, 8 Соглашения о таможенно-тарифном регулировании от 25.01.2008, положений пп.7.1.11 и 7.4 пункта 7 Решения Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 № 130, пунктом 1 и 3 Решения комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 № 728" (вместе с Особым мнением дело № 1-6/1-2013, Особым мнением по решению о преюдициальном запросе дело № 1-6/1-2013). Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс".
- Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01 июля 2020 года // Российская газета. 1993. 25 декабря.
- Постановление Конституционного Суда РФ от 20 декабря 2011 года № 29-П. Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс".
- Постановление Конституционного Суда РФ от 2 июня 2015 года № 12-П. Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс".