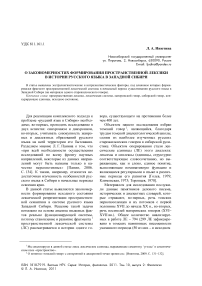О закономерностях формирования пространственной лексики в истории русского языка в Западной Сибири
Автор: Инютина Людмила Александровна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 2 т.10, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье выявлены экстралингвистические и интралингвистические факторы, под влиянием которых формировался фрагмент пространственной лексической системы в начальный период существования русского языка в Западной Сибири (на материале одного старожильческого говора).
Пространственная лексика, лексическая система, материнский говор, сибирский говор, конкурирующие единицы, исходное состояние
Короткий адрес: https://sciup.org/14737422
IDR: 14737422 | УДК: 811.161.1
Текст научной статьи О закономерностях формирования пространственной лексики в истории русского языка в Западной Сибири
Для реализации комплексного подхода к проблеме «русский язык в Сибири» необходимо, во-первых, проводить исследование в двух аспектах: синхронном и диахронном, во-вторых, учитывать совокупность жанровых и диалектных образований русского языка на всей территории его бытования. Разделяем мнение Л. Г. Панина о том, что «при всей необходимости осуществления исследований по всему фронту научных направлений, некоторые из данных направлений могут быть названы только в качестве перспективных» [Панин, 2006. С. 134]. К таким, например, относится недостаточная изученность особенностей русского языка в Сибири в начальные периоды освоения края.
В данной статье выявляются закономерности формирования исходного состояния лексической репрезентации пространственной семантики в системе русского языка Западной Сибири. Решение такой задачи возможно на основе анализа языковых фактов реально функционирующей системы, поэтому становление и развитие фрагмента 1 пространственной лексической системы (ЛС) рассматривается в истории одного го- вора, существующего на протяжении более чем 400 лет.
Объектом нашего исследования избран томский говор 2, являющийся, благодаря трудам томской диалектологической школы, одним из наиболее изученных русских старожильческих говоров в сибирской русистике. Объектом оперирования стали лексические единицы (ЛЕ) этого диалекта: лексемы и синлексы (единицы, структурно соответствующие словосочетанию, но выражающие, как и слово, единое понятие, выполняющие номинативную функцию и являющиеся регулярными в языке в различные периоды его развития [Голев, 1979; Климовская, 1973; Торопцев, 1970].
Материалом для исследования послужили данные памятников делового письма, исторических и диалектных словарей, которые отражают, во-первых, речь томских первопоселенцев и их потомков с первой половины XVII до начала XX в., во-вторых, речь носителей материнских говоров (XVI– XVII вв.). Общее количество анализируемых в работе ЛЕ – 794 (299 ЛЕ зафиксировано в томских памятниках письменности указанного периода (50 из них – в исходном
Таблица 1
Количественные данные о соотношении ЛЕ, зафиксированных в материнских говорах и в сибирском говоре в его исходном состоянии
|
Тематическая группа |
В ” св g О X и в В S св р со Н 3 со |
со 8 ft S Н Й ° и s и со S со Sococoo й я о о 2 & ч н 3 и и и ° со Е св s о а со 3 , а о я 2 t^ [О СО -3 О |
X М 13 о н S и я В О В X со * н Ю со |
|
1. Названия земельных участков, используемых как угодья |
200 |
12 (7/5) |
6 |
|
2. Названия регулярно обрабатываемых под посев участков |
44 |
11 (6/5) |
5,5 |
|
3. Названия частей пашенных угодий в системе севооборота |
58 |
8 (3/5) |
12 |
|
4. Названия мест для выпаса скота |
23 |
2 (0/2) |
8,7 |
|
5. Названия сенокосных угодий |
30 |
3 (1/2) |
10 |
|
6. Названия поселений |
20 |
7 (4/3) |
35 |
|
7. Названия усадьбы |
17 |
2 (2/0) |
11,8 |
|
8. Названия хозяйственных построек для скота |
57 |
1 (1/0) |
1,8 |
|
9. Названия хозяйственных построек для хранения и переработки зерна |
46 |
4 (4/0) |
8,7 |
|
Итого |
495 |
50 (28/22) |
10,1 |
состоянии) и 495 ЛЕ отмечено в источниках, отражающих материнские говоры).
ЛЕ, бытовавшие в материнских говорах, являвшиеся как общерусскими, так и территориально ограниченными в XVI–XVII вв., отражали мировидение (в том числе пространственное) носителей говоров разных территорий России. Становясь единицами сибирского русского говора, ЛЕ начинают выражать мировосприятие, формировавшееся у этих людей и их потомков на новом местожительстве в Сибири.
В табл. 1 обобщены некоторые результаты реконструкции пространственных ЛЕ в томском говоре в его исходном состоянии [Палагина, 2007. С. 79–90]. Количество ЛЕ, отмеченных в томских памятниках деловой письменности первой половины XVII в., невелико во всех исследованных тематических группах (ТГ) и колеблется от одного слова до максимум 12 в разных ТГ, что составляет в среднем лишь 10,1 % от количества ЛФЕ, известных материнским говорам (от 1,8 % в ТГ «Названия хозяйственных построек для скота» до 35 % в ТГ «Названия поселений»).
Прежде всего, необходимо ответить на вопрос, почему значительное количество ЛЕ, употреблявшихся в материнских говорах, не зафиксировано в томском говоре в его исходном состоянии. Для решения этой задачи мы сопоставляем в каждой ТГ (см. табл. 1) ЛЕ, бытовавшие в материнских говорах 3, с ЛЕ, отмеченными в томском говоре в интересующий нас период. В данной статье результаты такого сопоставления рассмотрены на примере названий земельных участков, используемых как угодья (1-я ТГ).
Во-первых, в томском говоре первой половины XVII в. не отмечены термины подсечно-огневого земледелия (слова с корнями - гар-, - пал-, - жг-, - огн-, - дор -/- дер -/- др-, - тереб-, - сек -/- сеч-, - чист -/- чищ - ): выгарь, гаревое место, гарец, гарца, изгарь, изгарье, паленина, паль, пальник, жгань, огнище, до -рок, дерба, дрань, новотереб, потереб, притереб, тереб, осек, осечек, пересека, подсека, россечь, сеча, сечище, новопро-чисть, новоросчисть, новочисть, причисть, причистной лес, прочисть, росчисть, чисть, чища, чищенина, чищенье, чищеное место и пр.
Во-вторых, в томской деловой письменности того периода практически не выявлено наименований участков, мало пригодных или неудобных для землепашества, сенокошения или выпаса скота. Семантика таких лексических единиц в первичных русских говорах содержала семы ‘сырой’, ‘низменный’: мокрядь, мокледь, вытопки, мокрое место, солонцы; ‘заброшенный’, ‘истощенный’, ‘пересеченный рельеф’: шутем, шу-темное место, шутемное поле, заростель, зароследь, лядина, осел, оселок, бечевник, завея, зыбь, кочки, червоедина, чертеж; ‘на берегу водоема или реки’: лука, розплавь, пойма, подберег, подморина; ‘около леса / под лесом’: подлесье, подосинник; ‘заболоченное место’: нюзь, трестник; ‘дополнительный / неосновной участок’: отход, за -краина, покраек, заполье, присыпь и пр.
В-третьих, не зафиксировано ЛЕ, которые были известны лишь отдельным материнским говорам, т. e. имели узкий ареал: пенники (вост. группа севернорус. говоров); виоранда, раега, сельга, кедовина, китовина (север. группа севернорус. говоров); ковыла, перевея, живущая земля, прокопная земля (южнорус. говоры); польная земля (запад. группа севернорус. говоров) и т. п. Следует заметить, что ареальная характеристика, безусловно, является взаимосвязанной с количеством фиксаций ЛЕ в текстах памятников письменности. Спорадическое употребление ЛЕ, как правило, обусловлено их бытованием на периферии языка, фиксацией таких единиц в памятниках, «во многом сохраняющих местные, не общерусские языковые черты» [Крысько, 2007. С. 352].
Остановимся на причинах «значимого отсутствия» ЛЕ материнских говоров в говоре вторичного образования. В историколексикологическом исследовании бывает сложно разделить интралингвистические и экстралингвистические факторы, поскольку, как правило, их воздействие взаимосвязанно. Например, очевидно, что определенную роль в отсутствии названных выше ЛЕ в памятниках томского делового письма сыграло как то, что подсечно-огневая терминология была устаревшей в XVII в., так и то, что в начальный период развития земледелия в Сибири занимались и осваивались участки, уже «подготовленные» природой, не требовавшие трудоемкой дополнительной работы (расчистки, выжигания деревьев и т. п.).
Немаловажным собственно языковым фактором, влиявшим на выбор конкурирующих ЛЕ в говоре, была их территориальная маркированность: узколокальные ЛЕ практически не отмечаются в томском говоре первой половины XVII в. Внеязыковое воздействие сказывается в том, что такие единицы обычно обозначали неудобные для хозяйственного использования земли, которые основатели томской запашки в XVII в. не называли, потому что такие участки не были востребованы: вокруг было достаточно угодий. Или, например, отсутствие в говоре многих наименований пригодных для сенокошения и выпаса скота мест объясняется неразвитостью животноводства в Томске и на всей сибирской территории в тот период. Невостребованность номинации является результатом отсутствия соответствующей реалии.
С другой стороны, следует проанализировать факторы, положительно влиявшие на выбор конкурировавших ЛЕ материнских говоров.
Семантика пространственных ЛЕ, зафиксированных в томском говоре в его исходном состоянии, отражает географические реалии, оказавшиеся актуальными для носителей данного сибирского говора 4.
В ТГ «Названия земельных участков, используемых как угодья» в томском говоре первой половины XVII в. отмечено 12 ЛЕ. С ономасиологической точки зрения, в данной ТГ представлены: а) ЛЕ, обозначающие любой земельный участок: обрабатываемый или необрабатываемый, данный природой или приспособленный человеком для своих нужд (земля, поле, угодье, угожее место и др.); б) ЛЕ, называющие участки, пригодные под пашню (ялань, пашенный лес) и мало пригодные под пашню (непашенный лес); пригодные для сенокошения и выпаса скота (луг, луговое место и др.). Эти номинации отражают особенности новой территории и хозяйственные нужды основателей Томска: обеспечивать хлебом сибирской запашки постоянно прираставшее население, снабжать ячменем, овсом и сеном также увеличивавшееся конское поголовье и т. п. [Беликов, 1898; Бояршинова, 1952; Емельянов, 1971; Кауфман, 1894; Лучшев, 1886; Шунков, 1946].
С точки зрения территориальной отне сенности , в ТГ « Названия земельных участ ков , используемых как угодья » в томском говоре исследуемого периода отмечены об щерусские ЛЕ (земля, угодье, пашенный лес, непашенный лес, поле, луг, лужок), территориально маркированные ЛЕ (дикое поле, ялань), а также ЛЕ , зафиксированные только в томской деловой письменности (угожее место, дикая земля, луговое место).
С семасиологической точки зрения , в лексической системе сибирского говора об разуются однозначные и многозначные ЛЕ . Полисеманты с разветвленной семантиче ской структурой принадлежали к основному словарному фонду русского языка , выражая жизненно важные пространственные поня тия , и , как правило , являлись общерусскими (деревня, земля, луг, поле, пашня, село, уго-дье и др .).
Семантические и словообразовательные связи слов , сложившиеся в материнских диалектах XVI–XVII вв ., определенным об разом влияли на конкуренцию лексем в формировавшемся томском говоре . Одно корневые ЛЕ образовывали в говорах мет рополии и затем в сибирском говоре много членные ряды . Кроме словообразовательной общности ЛЕ , между рядами таких единиц обнаруживается семантическая связь : явля ясь частью одной и той же ТГ , они состав ляют лексико - семантические парадигмы ( ЛСП ), если функционируют в одной ЛС . В табл . 2 на примере нескольких ЛСП сравнивается количество фиксаций ЛЕ , об разованных с определенным корнем и выражавших одинаковые или близкие про странственные понятия , в материнских го ворах и в томском говоре первой половины XVII в .
Например , в ТГ наименований регулярно обрабатываемых под посев участков в гово рах метрополии из 44 ЛЕ ( см . табл . 1), обна руженных в наших материалах , большую часть (25 ЛЕ ) составляют единицы с корня ми -ор-/-ро- (оранина, изорница, изоры, ора-мая земля, орамица, орамое место, ролья), -плуж- (плуженина, плужная земля, плуж-ный жеребей), - нив - (нива, нивица), - пах -/ - паш - (пахомая земля, пахомое место, па -хота, пахотная земля, пашенная земля, пашенное место, пашня, пропашная земля, роспашная земля, роспашь). В сибирском говоре в его исходном состоянии ЛЕ с кор нями -ор-/-ро- и -плуж- не зафиксированы , с корнем - нив - отмечено лишь слово нива и выявлен многочленный ряд , состоящий из
Таблица 2
Количественные данные о словообразовательной обусловленности конкуренции
ЛЕ материнских говоров в сибирском говоре в его исходном состоянии
|
Лексико - семантические парадигмы |
Количество ЛЕ в материнских говорах |
Количество ЛЕ , зафиксированных в сибирском го воре в его исход ном состоянии |
|
‘ Регулярно обрабатываемый под посев участок ’: оранина / плуженина / нива / пашня |
8 / 3 / 3 / 11 |
0 / 0 / 1 / 9 |
|
‘Сенокосное угодье’: пожня/покос |
14 / 11 |
0 / 3 |
|
‘Новое поселение’: пустошь / починок /заимка |
2 / 1 / 3 |
0 / 0 / 3 |
|
‘Поле под паром, залежь’: пар/перелог |
5 / 7 |
0 / 3 |
|
‘ Место с жилыми и хозяйственными постройка ми’: двор /усадьба |
10 / 7 |
2 / 0 |
-
9 единиц (см. табл. 2), с корнем - пах -/- паш -(пахота, пахотное место, хлебная пахота, пашня, пашнишка, пашенная земля, пашен -ное место, роспашь, распашная земля).
Среди названий частей пашенных угодий в системе севооборота в материнских говорах выявлено 5 наименований с корнем -пар - (пар, паренина, паровое поле и др.) и 7 ЛЕ с корнем -лог -/-лож - (залог, облог, пе -релог, обложная земля, переложная земля, переложная пашня и др.), использовавшихся для обозначения отдыхающей, находящейся под паром земли. Из этих словообразовательных гнезд, равно представленных в говорах метрополии, в томском говоре отмечено лишь гнездо с корнем - лог -/- лож -(залог, заложная земля, переложная земля).
В ТГ наименований сенокосных участков 14 ЛЕ из 30, обнаруженных нами в материнских говорах, были образованы с корнем -жа-/-жн- (сеножады, сеножатная дубро-ва, сеножатный луг, сеножать, сеножа-тье, пожнище, пожня и др.), 11 - с корнем - кос -/- кош - (закос, покос, роскос, сенной за -косец, сенной покос, сенокос, сенокоша, ко -шебное место и др.), а в томском говоре в его исходном состоянии зафиксированы только наименования с корнем -кос- ( сенной покос, сенокос, сенокосный покос).
В результате проведенного анализа выявлена следующая тенденция: из конкурирующих единиц материнских говоров, входящих в разные словообразовательные гнезда, в сибирском говоре первой половины XVII в. обнаружены только ЛЕ одного из них. Единицами томского говора становились ЛЕ материнских говоров, как правило, доминирующего в говорах метрополии словообразовательного гнезда (с корнем - пах -/- паш - ; - двор - ), но также - из равного по репрезентации (с корнем -им- ; -лог-/-лож- ) или даже из менее активного (с корнем -кос- ) (см. табл. 2).
Безусловно, ни один из выявленных нами факторов не является абсолютным или единственным. Результат конкуренции пространственных наименований, известных материнским говорам, в томском говоре в его исходном состоянии обусловлен комплексом причин:
-
1) экстралингвистических;
-
2) интралингвистических:
-
а) общерусская ЛЕ / ареально ограниченная;
-
б) широкий / узкий ареал ЛЕ;
-
в) степень употребительности ЛЕ;
-
г) поддержка языковой системы (семантические и словообразовательные связи).
Наиболее существенными собственно языковыми причинами в рассматриваемый период можно считать, во-первых, территориальную маркированность / немаркированность ЛЕ. Для конкурирующих ЛЕ материнских говоров определяющей была их максимально широкая территориальная отнесенность: 28 (56 %) из 50 пространственных ЛЕ, зафиксированных в томских памятниках деловой письменности первой половины XVII в., характеризуются как общерусские (см. табл. 1). Во-вторых, важным было удовлетворение семантической потребности в наименовании: выражение лексическим значением ЛЕ новых сибирских реалий и новых условий хозяйствования, с которыми пришлось столкнуться русским первопоселенцам и их потомкам, и актуальный способ репрезентации этой семантики.
Для более глубокого осмысления причин именно такой избирательности пространственных ЛЕ в начальный период существования томского говора необходимо проследить их функционирование в ЛС этого говора в динамике.
ON THE REGULARITIES IN FORMING OF SPATIAL VOCABULARY WITHIN THE HISTORY OF THE RUSSIAN LANGUAGE IN WESTERN SIBERIA