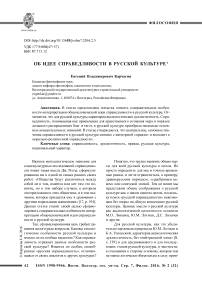Об идее справедливости в русской культуре
Автор: Карчагин Евгений Владимирович
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 2 (32), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье представлена попытка описать содержательные особенности интерпретации общечеловеческой идеи справедливости в русской культуре. Отмечается, что для русской культуры характерна аксиологическая дуалистичность. Справедливость, понимаемая как приемлемая для нравственного сознания мера и порядок должного распределения благ и тягот, в русской культуре приобрела несколько основных концептуальных значений. В статье утверждается, что центральное, основное значение справедливости в русской культуре связано с категорией «правда» и восходит к морально-религиозной «праведности».
Справедливость, дуалистичность, правда, русская культура, национальный характер
Короткий адрес: https://sciup.org/14974786
IDR: 14974786 | УДК: 177.9:008(47+57) | DOI: 10.15688/jvolsu7.2016.2.5
Текст научной статьи Об идее справедливости в русской культуре
DOI:
Важное методологическое значение для социокультурных исследований справедливости имеет такая мысль Дж. Ролза, сформулированная им в одной из самых ранних своих работ: «Общества будут различаться между собой не в том, имеется или нет там это понятие, но в том наборе случаев, к которым оно приложимо в этих обществах, и в том значении, которое придается ему в сравнении с другими моральными концептами» [17, р. 194]. Данная статья ставит своей целью сформулировать содержательные особенности интерпретации общечеловеческой идеи справедливости в русской культуре.
Так, сформулированная цель требует решения целого ряда вопросов. Каковы типологические особенности русской культуры и можно ли их вообще выделить? Как справедливость отражает данные особенности русской культуры? Имеется ли особая, своеобразная «русская справедливость», отличающаяся от своих аналогов в других культурах?
Понятно, что трудно выявить общие черты для всей русской культуры в целом. Не просто определить для нее и точные временные рамки, и легче ограничиться, к примеру, древнерусским периодом, «серебряным веком» или советской эпохой. Тем не менее мы представим общие соображения о русской культуре как о неком едином целом, поскольку поиск «русской справедливости» невозможен без опоры на общую концепцию русской культуры. Ценные мысли о русской культуре как аксиологической целостности оставили М.О. Лившиц, Ю.М. Лотман, Д.С. Лихачев и другие.
Для русской культуры, как это убедительно продемонстрировали Ю.М. Лотман и Б.А. Успенский, характерна аксиологическая дуалистичность, без «нейтральной зоны» [8, с. 339] и для средневекового и для последующих этапов русской культуры, в частности, в отношении к старому и новому, которая тем не менее логически обязательна в силу прин- ципа аксиологической полноты. Специфика русской культуры в XVI–XIX вв., «в частности, проявлялась в том, что связь с прошлым объективно наиболее резко ощущалась тогда, когда субъективно господствовала ориентация на полный с ним разрыв, и, напротив, ориентация на прошлое связывалась с вычеркиванием из памяти реальной традиции и обращением к химерическим конструктам прошлого» [8, с. 371]. Это, как полагают авторы, объясняет, почему для разных этапов истории России «не характерен консерватизм и, напротив, характерны реакционные и прогрессивные тенденции» [8, с. 341].
Противоречивые черты русского национального характера и русской культуры, проявленные в виде таких полярностей, как Кутафья башня и Московский университет, древнерусская иконопись и послепетровская живопись, Москва и Санкт-Петербург, «представляют собой закономерное единство и создают как раз то, что является общим историческим фоном, стилем, традицией нашей культуры. Эти две струи, два элемента, две черты характерны для нашей культуры» [7, с. 38]. Даже хрестоматийный спор между славянофилами и западниками последовательно являет собой эту логику радикального контрадикторного раскола. Характерно, что Герцен, говоря о славянофилах и западниках, сравнивает их с двуликим Янусом: «Да, мы были противниками их, но очень странными. У нас была одна любовь, но неодинаковая... И мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время как сердце билось одно» [3, с. 170].
Итак, типологической особенностью русской культуры можно считать ценностную дуалистичность. Как идея справедливости отражает эту черту русской культуры?
Справедливость выражает качество соответствия правильному, правде, правому, то есть верному вообще, должному в отношении существования, распределения и в отношении внутреннего гомеостаза социального субъекта (как личности, так и общества). Справедливость есть мера или пропорция равенства (или неравенства), мера правильного сочетания частей целого, принципиально возможная в двух вариантах: эгалитарном горизонтальном и иерархическом вертикаль- ном. Справедливость фиксирует приемлемую для нравственного сознания меру (порядок, способ, версию, тип) конфигурации социокультурной реальности. Если выразиться максимально кратко, то справедливость есть мера должного распределения благ и тягот. В контексте дефиниции мерой мы предлагаем считать любую смысловую концептуализацию справедливости. Распределение (дистрибуция) пронизывает всю социальную реальность и поддерживает социальный метаболизм, обмен и циркуляцию всех видов социокультурных благ и антиблаг или тягот. Воздаяние, наказание, взаимный обмен мы также рассматриваем как разновидность распределения.
Как именно представлена справедливость в русской культуре? На каком материале она видна лучше всего? Можно считать, что присутствие идеи справедливости обнаруживается: в теоретических (прежде всего философских) текстах, специально ей посвященных; в текстах, имеющих к ней косвенное отношение, но, тем не менее, ясно эксплицирующих идею (например, религиозных, литературных, политических); в языке вообще; в оценках, ценностном отношении и нормах национального менталитета и национальных социальных институтов; в материальных формах и артефактах русской культуры – музыке, архитектуре, живописи т. д.
В русском термине «справедливость», также как и в соответствующих терминах других языков, на глубинном уровне соотнесены логический, моральный и социальный порядок. Корневые основы «справедливости», «правильности», «правды», «праведности», «управления» совпадают. Интересно, что и от слова «порядок» можно образовать моральные термины – «порядочность», «порядочный». Справедливость тем самым означает правильный, верный, истинный порядок вещей и человеческих отношений в обществе.
Русская культура дает свои варианты обоснования оправданности того или иного порядка и ценит разные блага в разных отношениях. По этой причине она не составляет чего-то монолитного и гомогенного, но имеет сложный, комплексный характер как в диахроническом (динамическом), так и в синхроническом (статичном) плане.
Концептуальной эволюции справедливости в русской культуре посвятила несколько своих публикаций Н.В. Печерская [12; 16]. В ее работах мы находим обоснованный взгляд на диахроническое бытие идеи справедливости в русской культуре, метаморфозы и основные пути трансформации этого понятия на русской культурной почве. Н.В. Печерская свое исследование проводит на базе теории позднего Л. Витгенштейна и работает в рамках концепции моральных практик. Согласно ее выводам справедливость – это концепт, работающий только в конкретной, отдельно взятой моральной практике и не сводимый к концепту справедливости из другой моральной практики. Ее заслуга в том, что она выявляет и описывает несколько концептуальных моделей «русской» справедливости. Н.В. Печерская прослеживает эволюцию понятия «справедливость» в русской культуре с конца XVII до конца XX века. Автор показывает, что слово «справедливость» за три века своей «русской истории» превратилось в многозначное понятие. На протяжении всего XIX в. в рамках социально-философского дискурса происходило оформление каждого из его значений в самостоятельную, рационально обоснованную систему идей со своими теоретиками, принципами и критериями справедливого и несправедливого. Постепенно значения все более обособлялись, входя в конфронтацию друг с другом. Именно поэтому не существует общего универсального понятия «справедливости», объединяющего все значения. Каждое из них образовывает отдельный «мир справедливости» – универсальный и самодостаточный [12].
Тем не менее мы полагаем, что основной дискурс справедливости в русской культуре во многом концептуализировался и оформлялся через концепт «правда». Некоторые исследователи считают правомерным утверждать наличие в русской культуре особой «правды-справедливости» [14; 15]. В русской интеллектуальной традиции сквозной линией проходит рассуждение о синтетическом характере правды, которая объединяет в себе истину и справедливость. В частности, Н.К. Михайловский разграничивал объективную правду-истину и субъективную нравственно-оценочную правду-справедливость.
Даже большевизм в этом смысле продолжает традиции русского правдоискательства. Так, В.А. Печенев отмечает внимание к правдоискательству и стремление к правде как национально-традиционный феномен, порожденный «спецификой России, ее национального бытия и характера народного самосознания» [11, с. 243]. «В русском языке, собственно говоря, “справедливость” как слово, как понятие сливается в одно целое с великим, емким словом “правда”, дополняет его. Жить по правде, действовать в соответствии с истиной в народном обиходе всегда и означало жить по законам справедливости» [11, с. 64]. Причину этого В.А. Печенев видит в принципиальном разведении истинностного значения справедливости и морально-нравственного смысла справедливости.
Скорее всего, такое отношение к справедливости обусловлено христианской рецепцией и интерпретацией термина δικαιοσυνη, который переводится в русских изданиях Нового Завета как «правда» и «праведность». Это обусловлено тем, что «социальные представления о нравственном идеале в российском менталитете в целом сохраняют историческую преемственность с христианскими идеалами народа (прежде всего русских как титульной нации) дореволюционной России» [1, с. 319].
Возможно также, что влияние религиозной традиции осмысления справедливости как правды и праведности помешало формированию собственно философского понимания справедливости в русской интеллектуальной традиции.
В этой связи особое значение имеет вопрос о связи специфики русского менталитета и представлений о справедливости. В своей статье «Русский национальный характер» Б.П. Вышеславцев вспоминает одну русскую былину об Илье Муромце и о его ссоре с князем Владимиром [2]: «Однажды устроил князь Владимир “почестей пир” “на князей, на бояр, на русских богатырей”, “а забыл позвать старого казака Илью Муромца”». Илья, воплощающий крестьянство как главную опору и силу русской земли, конечно, страшно обиделся. «Натянул он тугой лук, вложил стрелочку каленую и “начал он стрелять по Божьим церквам, да по чудесным крестам, по тыим маковкам золоченым”. И вскричал Илья во всю голову зычным голосом: “Ах вы, голь кабацкая (доброхоты царские!), Ступайте пить со мной заодно зелено вино, Обирать-то маковки золоченыя!” Тут-то пьяницы, голь кабацкая, бежат, прискакивают, радуются:
– Ах ты, отец наш, родной батюшка! – Пошли обирать на царев кабак, Продавать маковки золоченые, Берут золоту казну бессчетную, И начали пить зелено вино».
По мнению Б.П. Вышеславцева, это картина русской революции. Мужицкого богатыря не позвали на княжеский пир. И в силу некоторой справедливой обиды внезапно он стал разрушать все, что признавал святыней и что защищал всю свою жизнь. «Здесь ясно виден весь русский характер: несправедливость была, но реакция на нее совершенно неожиданна и стихийна. Это не революция западноевропейская; с ее добыванием прав и борьбою за новый строй жизни, это стихийный нигилизм, мгновенно уничтожающий все, чему народная душа поклонялась, и сознающий притом свое преступление, совершаемое с “голью кабацкою”. Это не есть восстановление нарушенной справедливости в мире, это есть “неприятие мира”, в котором такая несправедливость существует. Такое “неприятие мира” есть и в русском горестном кутеже, и в русских юродивых и чудаках, и в нигилистическом отрицании культуры у Толстого, и, наконец, в коммунистическом нигилизме» [2].
Любопытно окончание былинной истории. Владимир, увидав «погром», испугался и понял, «что пришла беда неминучая». Он устроил новый пир специально для «старого казака Ильи Муромца». Но трудная задача была его пригласить, ясно было, что он теперь уж не пойдет. Тогда снарядили в качестве посла Добрыню Никитича, русского барина-богатыря, который вообще исполнял дипломатические поручения. Только он сумел уговорить Илью. И вот Илья, которого теперь посадили на самое лучшее место и начали угощать вином, говорит Владимиру, что он не пришел бы, конечно, если бы не Добрыня, его «брат названый». «Знал, кого послать меня позвать!» И далее признается, что у него было намерение «убить тебя князя Владимира / Со стольною Княгиней с Ев-праксией / А ныне тебя Бог простит / За эту вину за великую!».
Б.П. Вышеславцев полагает, что «этого пророческого предупреждения, совершенно ясно высказанного в русском былинном эпосе, не поняла русская монархия: она не послала барина Добрыню, чтобы пригласить “брата крестового”, русского мужицкого богатыря на княжеский и боярский пир» [2].
Выходит, что не приглашение русского народа на «пир» распределения российских богатств чревато самыми неприятными последствиями для структур власти.
Указанные особенности в отношении справедливости национального менталитета русского народа проявляются и в XXI веке. С.В. Мареева показывает, что представления о справедливом обществе до сих пор являются важными для большинства населения страны и сформировали достаточно устойчиво ценностно-нормативную систему, независимо от социального положения и динамики личного благополучия: «...в целом можно говорить о том, что ключевыми его элементами, с точки зрения россиян, являются равенство возможностей для всех, активная роль государства в системе социальной защиты, поддерживающей всех оказавшихся в сложном положении не по своей вине, дифференциация в доходах, отражающая образование, квалификацию и эффективность работы каждого человека, но находящаяся в разумных пределах. <...> И хотя россияне проявляют высокую степень толерантности к большинству видов социальных неравенств, сложившаяся на данный момент в России ситуация отнюдь не отвечает их представлениям о справедливости: неравенства в доходах представляются им излишне высокими, а их основания – нелегитимными. И эта проблема остро переживается населением страны. Более того, россияне не видят никаких возможностей изменения сложившейся ситуации, что приводит к росту недовольства и социальной напряженности и еще большим расхождениям между представлениями об обществе, в котором россияне хотели бы жить, и тем, в котором они на данный момент жить вынуждены» [10, с. 26]. Заметим, что социальные неравенства и несоответствие «сферы сущего» «сфере должного» в русской культуре скорее «переживаются», нежели рационально оспариваются.
Российское общество по сути не выработало рациональных принципов социальной справедливости, справедливость в русской культуре по большей части сводится к чувству справедливости. Так, по словам М.К. Мамардашвили, в России конца XIX – начала XX в. не возникла артикулированная форма выражения, обсуждения и кристаллизации общественного гражданского мнения, «не случилось права, а случилась справедливость как интуитивное ощущение, всех объединяющее, которому нужно доверять больше, чем формализованному институту права» [9, с. 164].
Справедливость в качестве традиционной ценности, переданной предками, упоминается в преамбуле Конституции Российской Федерации 1993 г. («Мы, многонациональный народ Российской Федерации, ...чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость... принимаем Конституцию Российской Федерации»). Однако, на наш взгляд, и вся в целом Конституция направлена на установление справедливого порядка, установление справедливости в широком смысле (и в изначальном смысле), так как устанавливается определенная дистрибутивно-распределительная структура, легитимизирующая определенный порядок и каналы движения социальных благ и тягот, свободы и ограничений, предписывающая обязательные, запрещенные и разрешенные практики. Конституция распределяет власть, социальные блага – безопасность, образование. Конечно, заявленные права и свободы во многом носят декларативный характер. В тексте Конституции не очень внятно прописаны механизмы создания прочной позиции гражданина. Многовековой опыт государственного произвола и бесправия обычных граждан в нашем отечестве не был учтен российскими конституционалистами.
Понимание справедливости в современной академической русскоязычной литературе не отличается самостоятельностью и оригинальностью. Г.Ю. Канарш указывает на некоторые современные тенденции социально-философского и политологического дискурсов справедливости в конкретном политическом процессе России. Показав «аксиологические основания консервативного, этнократического, социал-демократического, центристско- го и коммунитаристского проектов, а также особенности образа справедливого общественно-политического устройства, который сформировался или формируется в рамках этих доктрин» [4, с. 160], он считает максимально обоснованным и приемлемым центристский проект «хорошего общества» («good society») В.Г. Федотовой. В свою очередь, Б.Н. Кашников в рецензии [6] на фундаментальную работу А.В. Прокофьева «Воздавать каждому должное... Введение в теорию справедливости» [13], содержащую добротный обзор современных дискуссий о справедливости, довольно критически оценил ее оригинальность. Можно согласиться с такой оценкой несамостоятельности дискурса справедливости А.В. Прокофьева, однако и сам Б.Н. Кашников в своих работах демонстрирует сильную зависимость от концептуального подхода Джона Ролза [5].
Таким образом, социокультурные причины не появления в России полноценной академической, сопоставимой с западной, традиции анализа справедливости, помимо всего прочего, можно видеть в следующем: во-первых, отсутствие равных социально-политических субъектов (власть – народ), то есть отсутствие правового государства и гражданского общества; во-вторых, доминирование морально-религиозного дискурса, ставящего на место справедливости милосердие, которое или выше справедливости, или отождествляется с последним.
Мы считаем, что в России по-настоящему вопрос о справедливости еще не ставился на том уровне и в том масштабе, которого он заслуживает. В силу ряда причин пока не решены внутренние проблемы теории и практики справедливости, а это препятствует полноценному анализу проблем глобальной справедливости в качестве одного из самостоятельных субъектов межкультурного диалога. В заключение также отметим, что идеи, изложенные в статье, носят предварительный, «очерковый» характер и нуждаются как в дальнейшей доработке, так и в критической проработке.
Список литературы Об идее справедливости в русской культуре
- Воловикова, М. И. Представления русских о нравственном идеале/М. И. Воловикова. -Изд. 2-е, испр. и доп. -М.: Изд-во «Ин-т психологии РАН», 2005. -332 с.
- Вышеславцев, Б. П. Русский национальный характер/Б. П. Вышеславцев//Вопросы философии. -1995. -№ 6. -С. 113-117.
- Герцен, А. И. Былое и думы/А. И. Герцен//Собрание сочинений: в 30 т. -М.: Изд-во АН СССР, 1956. -Т. IX. -355 с.
- Канарш, Г. Ю. К вопросу о российском дискурсе справедливости/Г. Ю. Канарш//Полис. -2008. -№ 5. -С. 160-168.
- Кашников, Б. Н. Введение в теорию справедливости. Какая теория? Чья справедливость?/Б. Н. Кашников//Этическая мысль. -2015. -Т. 15, № 1. -С. 15-25.
- Кашников, Б. Н. Исторический дискурс российской справедливости/Б. Н. Кашников//Вопросы философии. -2004. -№ 2. -С. 29-43.
- Лифшиц, М. Очерки русской культуры/М. Лифшиц. -М.: Академический проект, 2015. -751 с.
- Лотман, Ю. М. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII века)/Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский//Успенский, Б. А. Избранные труды. Т. 1: Семиотика истории. Семиотика культуры/Б. А. Успенский. -М.: Гнозис, 1994. -С. 338-380.
- Мамардашвили, М. К. Опыт физической метафизики/М. К. Мамардашвили. -М.: Прогресс-Традиция, 2009. -304 с.
- Мареева, С. В. Справедливое общество в представлениях россиян/С. В. Мареева//Общественные науки и современность. -2013. -№ 5. -С. 16-26.
- Печенев, В. А. Истина и справедливость: (Размышления о нравственно-философских аспектах проблемы)/В. А. Печенев. -М.: Политиздат, 1989. -256 с.
- Печерская, Н. В. Справедливость: между правдой и истиной: (История формирования концепта в русской культуре)/Н. В. Печерская//«Правда»: Дискурсы справедливости в русской интеллектуальной истории. -М.: ИД «Ключ-С», 2011. -Гл. 1. -С. 15-48.
- Прокофьев, А. В. Воздавать каждому должное.. Введение в теорию справедливости/А. В. Прокофьев. -М.: Альфа-М, 2013. -512 с.
- Рачков, П. А. Правда-справедливость/П. А. Рачков//Вестник Московского государственного университета. Серия 7, Философия. -2006. -№ 1. -С. 83-107.
- Степанов, Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования/Ю. С. Степанов. -М.: Школа «Языки русской культуры», 1997. -824 с.
- Pecherskaya, N. V. Looking for justice: the everyday meaning of justice in late Soviet Russia/N. V. Pecherskaya//Anthropology of East Europe Review. -2012. -Vol. 30, № 2. -P. 20-38.
- Rawls, J. Justice as Fairness/J. Rawls//The Philosophical Review. -1958. -Vol. 67, Apr. (№ 2).