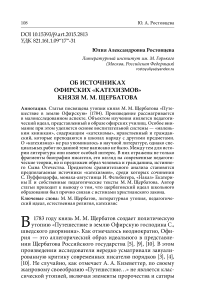Об источниках офирских «катехизмов» князя М. М. Щербатова
Автор: Ростовцева Юлия Александровна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: т.13, 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена утопии князя М. М. Щербатова «Путешествие в землю Офирскую» (1784). Произведение рассматривается в малоисследованном аспекте. Объектом изучения является педагогический идеал, представленный в образе офирских училищ. Особое внимание при этом уделяется основе воспитательной системы - «маленьким книжкам», содержащим «катехизмы», нравственный и гражданский, которые преподаются в школах наряду с другими предметами. О «катехизмах» не раз упоминалось в научной литературе, однако специальных работ по данной теме написано не было. Между тем для истории литературы они имеют особый интерес. В них отражены не только фрагменты биографии писателя, его взгляд на современные педагогические теории, но и предложен образ человека и гражданина, истинного Сына Отечества. Предметом сравнительного анализа становятся предполагаемые источники «катехизмов», среди которых сочинения С. Пуффендорфа, монаха-августинца И. Фельбигера, «Наказ» Екатерины II и собственные педагогические тексты М. М. Щербатова. Автор статьи приходит к выводу о том, что щербатовский идеал школьного образования был прочно связан с истинами христианского закона.
М. м. щербатов, литературная утопия, педагогический идеал, естественная религия, катехизис
Короткий адрес: https://sciup.org/14748924
IDR: 14748924 | DOI: 10.15393/j9.art.2015.2813
Текст научной статьи Об источниках офирских «катехизмов» князя М. М. Щербатова
В 1783 году князь М. М. Щербатов создает политическую утопию «Путешествие в землю Офирскую господина С., шведского дворянина». Как отмечалось неоднократно, Офи-рия — это аллегорический образ идеального в представлении Щербатова Российского государства [5], [9], [10]. В этом произведении исследователи нередко усматривали завуалированную критику современных писателю порядков [3], [4], [10]. Не случайно, как отмечает А. А. Кизеветтер, по своему жанровому своеобразию «Путешествие…» не является классической утопией, включая элементы пророчества и сатиры
[4, 31]. В тексте присутствует множество современных автору реалий. Так, Д. В. Бугров сделал вывод, что Офир — это «улучшенная» Россия, помещенная Щербатовым по всем правилам классической утопической литературы на крайнем юге планеты (еще не исследованном, а значит, абсолютно утопическом «месте, которого нет», в полуабстрактном «нигде») [2]. Художественная копия Российской империи, вместе с тем, гораздо более очевидна: географически автор расположил Офирию в том же месте, какое в южном положении соответствовало России, на что указывает А. Н. Пыпин в статье 1896 года «Полузабытый писатель XVIII века» [6].
Итак, утопия Щербатова — это «облагороженная» действительность Екатерининской эпохи, основа фантастики которой — реальные условия [8]. Последнее справедливо и в отношении офирской системы образования. Автор описывает Перегабскую Академию наук, городские и поселянские школы, учебные дисциплины и, между прочим, предлагает вниманию читателя содержание «маленьких книжек»: «катехизмов», нравоучительного и гражданского, которые изучаются в училищах наряду с другими предметами.
Некоторые педагогические идеи были изложены автором ранее в сочинениях, посвященных воспитанию юношества. Как отмечал в своем историко-литературном очерке (1881 г.) А. А. Дубицкий, писатель «не опускалъ безъ вниманія ни одного выдающагося событія въ современной ему государственной и общественной жизни русскаго народа» 1 . Деятельный участник Комиссии о коммерции в 1772 году, он создает Проект для купеческих школ, в основе педагогической программы которого лежало совмещение духовно-нравственного и экономического образования, столь необходимого для обучения детей этого сословия. «Всякому христіанину потребно имѣть знаніе закона Божія, и о должностяхъ на пра-вилахъ вѣры основанныхъ (курсив мой. — Ю. Р .), и тако сіе необходимо въ хорошее воспитаніе входитъ; а понеже и самая торговля основывается на страхѣ Божіи, и на происходящей о(тъ) того доброй вѣры» 2 .
Вопрос обучения юношей догматам веры имел для Щербатова особое значение. В 1785 году он пишет работу под заглавием «О способахъ преподаванiя разныя науки». Текст любопытен не только для историка литературы, но и для исследователя биографии и творчества писателя. Автор упоминает о катехизисе православной веры, сочиненном им лично для своих детей. По мысли Щербатова, тексты для юношества должны представлять собой истины Божественного учения, адаптированные для юного читателя. При этом, согласно распространенной в XVIII веке практике благочестия, христианская мораль должна была помочь гражданину образовать свои мысли, волю, найти место в жизни3. Подобные идеи были довольно распространены в екатерининскую эпоху, но появились они не тогда, и, конечно, публицистические и литературные произведения Щербатова не являются первыми опытами в данном направлении.
Дух западной культуры, привнесенный секулярными реформами Петра I, на русской почве обратился в своеобразное единство основ церковного благочестия и правил светского поведения. Ярчайший пример тому — «Пособие для обучения и воспитания детей дворян», изданное в 1717 году и более известное под заглавием «Юности честное зерцало». Основной целью «Пособия» было воспитание истинного человека и гражданина. В этом же духе написаны «катехизмы», нравственный и гражданский, для офирского юношества.
О наставлениях для офирского юношества нередко упоминалось в работах, посвященных утопии князя Щербатова, однако отдельных исследований по данной теме до сих пор не было. Любопытный взгляд на «книжки» представлен в статье Н. Д. Чечулина «Русский социальный роман XVIII века» (1900): «Эти моральныя правила, и эта вѣра въ то, что можно сдѣлать людей лучшими и счастливыми ка-кимъ нибудь небольшимъ по объему — и, прибавимъ отъ себя, ничтожнымъ по содержанію — сборникомъ пропис-ныхъ истинъ азбучной морали — все это было общераспро-страненнымъ въ XVII и особенно въ XVIII вѣкѣ» [10, 22]. Однако комментарии ученого имеют односторонний характер: оставлена без внимания та часть наставлений, которая относится к гражданским законам. Аналогичную характеристику можно дать и работе Э. Вагеманса «К истории русской политической мысли: М. М. Щербатов и его “Путешествие в землю Офирскую”» [3]. В статье А. А. Кизеветтера «кате-хизмы», напротив, охарактеризованы лишь со стороны гражданского права [4, 49]. Любопытное наблюдение на этот счет высказано Т. В. Артемьевой в монографии, посвященной философии и утопии эпохи Просвещения. Указывая на то, какое место занимало освоение этих правил в образовательной системе Офирии, автор уподобляет его изучению Евангелия в Российской империи [1]. В исследовании французского слависта Андре Монье «Русская утопия в век Екатерины» «катехизмы» представлены как деистические, воль-терьяновские, не соответствующие божественному Откровению и церковному Преданию [13].
Утопия Щербатова действительно актуализирует христианский идеал в его искаженном, неканоническом виде. Главный герой, от лица которого ведется повествование, говорит о вере с офирским священнослужителем- санкреем (то есть блюстителем порядка). Исповедуя православное вероучение, он рассказывает «о сотворенiи мiра, о паденiи человѣка, о прi-уготовленiи пророчествами и знаками воплощенiя Господа Iисуса Христа». Санкрей, между тем, остается безучастен:
…мы также единаго Бога какъ и вы почитаемъ, призна-емъ Его единаго всемогущимъ строителемъ и правителемъ всего видимаго и невидимаго 4 .
В то же время утопическая страна являет собой некий идеал, который в культурном и политическом отношении превосходит Российскую империю и европейские страны. Таким образом, религия офирских граждан предстает в более выгодном свете. В отличие от православия, во многом основанного на «осуществлении ожидаемого и уверенности в невидимом» (Евр. 11:1), вера в Единаго Бога предельно рассудочна. В ней нет ничего сверхъестественного, все качества Божества офирец логическим путем выводит из созерцания окружающего мира:
Мы люди, а потому суть твари одаренныя разсудкомъ, и слѣдственно взираемъ на небеса, устройство разныхъ свѣтилъ, ихъ разные пути; взирая на землю, плодородiе ея, испытанiе, что никая травка безъ сѣмени не родится;
…а потому мы и заключили со справедливостiю, что есть невидимое нами Всевышнее Естество, которое все создало, все устрояетъ и все содержитъ 5 .
Следует отметить, что подобные постулаты не были для конца XVIII столетия каким-то литературным экспромтом. Несмотря на утопическую форму, в них очевидно влияние педагогических теорий, сутью которых, по слову С. В. Рождественского, «было стремление порвать с традицией религиозного образования, в его исторических вероисповедных формах, и поставить воспитание на почву идей деизма и естественной морали» [7, 343]. Примечательно, что по плану, составленному для детских воспитательных академий в 70-х годах XVIII века, «первая наука, заключающая в себе великую воспитательную силу, есть закон Божий, но не “богословие Откровения”, а богословие “естественное” » (курсив мой. — Ю. Р. ) [7, 343]. Нравственные и гражданские законы офирян также выводятся из рационалистического убеждения в существовании Высшего Естества:
…Взирая на разныя приключенiя жизни человѣческой и бывъ убѣждены въ правосудiи Божiемъ, считаемъ мы быть души человѣческiя безсмертны, считаемъ воздаянiе за добрыя дѣла и наказанiе за злыя 6 .
«Законнический» характер имеет не только религиозная философия, но и маленькие книжки, содержащие нравственный и гражданский «катехизмы», преподаваемые офирскому юношеству в школах. В «книжках» Щербатова лексема «Бог» встречается нечасто и семиотически тождественна слову «Естество» или «Создатель». В этих и других деталях заметно влияние идей одного из первых представителей естественно-правовой школы — Самуэля Пуффендор-фа, изложенных им в сочинении «О должности человека и гражданина по закону естественному», впервые опубликованном на русском языке в 1726 году. Ср.:
С. Пуффендорф
«О должности человека и гражданина»
…яко БОГЪ ЕСТЬ ВСЕЛЕННЫЯ СЕЯ СОЗДАТЕЛЬ. Егда бо разсужденіемъ самымъ вѣдомо есть, что сія вся, яже суть въ мірѣ семъ, отъ себя самыхъ начала своего не имуть, то подобаетъ да бы оная крайнѣйшую нѣкую вину имѣли: которая самая тая есть, юже БОГОМЪ именуемъ7.
М. М. Щербатов «Катехизмы, нравственный и гражданский»
1. Ничто изъ ничего быть не мо-жетъ. Подумай, и ты увидишь самъ сію истину, что каждая вещь имѣетъ свою причину и начало; слѣдственно и составленіе вселенной, и самое твое естествованіе должно имѣть свою причину и начало; и сіе есть Богъ8.
Свои «Размышления о законодательстве вообще» писатель также изложил согласно идеям естественного права, отмечая, что «законы должны быть сходны съ Божественными и естественными узаконеніями» 9 . К упомянутой работе Пуф-фендорфа, очевидно, восходит и правовая трихотомия Щербатова: божественный — естественный (положительный) — человеческий закон 10 .
Книга Пуффендорфа послужила источником для сочинения другого немецкого автора — монаха-августинца Иоганна Фельбигера, труд которого имеет схожее название: «О должностях человека и гражданина». Учебник был переведен с немецкого на русский и опубликован в то самое время, в которое было написано утопическое произведение Щербатова. Сложно сказать, знаком ли был автор с этим педагогическим трудом. В статье А. Н. Пыпина «Полузабытый писатель XVIII века» есть любопытное замечание, которое, впрочем, нельзя интерпретировать однозначно: «Около того же времени (когда написано “Путешествіе въ Офирскую землю”, пока еще не опредѣлено) для “народныхъ училищъ”, ко-торыя основывались въ послѣдніе годы царствованія Екатерины II, издана была книжка “О должностяхъ человѣка и гражданина”, составленная въ подобномъ направленіи (за исключеніемъ деистической религіи)» [6, 297]. Указание на то, какой популярностью пользовалась эта книга в названный период, есть и в работе американского историка
Джери Маркера, посвященной общему школьному образованию в России 1782–1802 годов. [12].
Порожденные культурой гражданской нравственности и морали, эти тексты имеют идейное и композиционное сходство. Обе работы начинаются с рассуждений об обязанностях людей перед Создателем. В тексте «учебника» этому вопросу уделено меньше внимания, чем в «Путешествии…». У немецкого педагога долг христианина по отношению к Творцу рассматривается сквозь призму гражданской морали — Щербатов же нередко заостряет внимание на духовной стороне вопроса. Во многих случаях мысль российского писателя отражает цель и назначение нравственного катехизиса точнее, чем интерпретация западного педагога. Если глава «О должностях к самому себе» из фельбигеровской книги включает в себя такие подглавы, которые касаются домоводства и поведения в быту: «О порядке», «О трудолюбии», «О довольствии», «О хозяйстве», «О бережливости», — то в утопии Щербатова фрагмент под тем же названием включает в себя разделы о кротости, воздержании и житейской мудрости. В другом разделе писатель еще более отходит от западных естественно-правовых теорий в сторону ортодоксального вероучения. Фрагмент, озаглавленный «Должности человека относительныя к вышнему Естеству и самому себе», заканчивается положением, которое восходит, вероятно, к Поучению аввы Дорофея «О страхе Божием»:
Прилагай свое попеченiе каждый вечеръ размышлять о содѣянномъ тобою; суди себя яко строгій судія, и благодари Бога, что содѣялъ хорошее, остерегайся же и проси его, чтобы далъ тебѣ силу воздержаться, что содѣялъ худое 11 .
«Естественная религия» утопических жителей, несмотря на незнание ими христианства, включает в себя основы православного святоотеческого учения. Центральной идеей «ка-техизмов» является любовь к своему Отечеству, то же можно сказать и о педагогическом трактате Иоганна Фельбигера. Как отмечают ученые, согласно этой методике государство фактически отождествлялось с правительством:
Когда любовь къ отечеству въ томъ состоитъ, чтобъ мы Государю, начальству и законамъ общества, въ коемъ мы живемъ, усердно покорялись; то смотрѣть намъ должно, что любовь къ отечеству въ сердцахъ нашихъ производитъ 12 .
По словам Д. Л. Блэка, «излагая юным ученикам мысль о том, что воспитание патриотических чувств является естественной частью образовательного процесса, автор предлагал новый фундаментальный образец жизненного порядка» [11, 83–84]. Именно такое общество и хотела построить Екатерина II, которая, по замечанию М. Раева, «может быть причислена к великим правителям-камералистам» [14, 1236].
«Катехизмы» писателя, в отличие от методики австрийского педагога, провозглашают любовь к Отечеству, основанную на соблюдении заведенных в государстве установлений: «…кто любитъ свое отечество, тотъ любитъ его и за-конъ» 13 . Насколько можно заметить, закон для писателя имел значение абсолютное. В политико-публицистическом трактате «Размышления о законодательстве вообще» (1789) автор отмечал:
Законы должны быть сходны съ Божественными и естественными узаконеніями. Вмѣщенное въ священное писаніе ученіе подъ именемъ премудрости Iисуса сына Сирахова намъ гласитъ: “Начало премудрости — страхъ Господень”. Не должны мы отъ сихъ священныхъ и внутреннимъ чувствованіемъ сердецъ нашихъ утвержденныхъ словъ въ важномъ дѣлѣ законодательства удаляться 14 .
«Гражданские катехизмы» для офирского юношества отличаются практическим характером. Из любви к законам проистекает любовь к порядку. Последнее, в свою очередь, требует иерархии: начальники — подчиненные. Заявленная структура не является провиденциальной: власть высших над нижними объясняется не Божественным промыслом, но особыми привилегиями первых: «…сіи избраны яко достойнѣйшіе и болѣе свѣдѣнія имѣющіе, а потому и симъ уже преимуществуютъ надъ тобою»15. Вместе с тем, нравственные наставления Щербатова включают моменты, проникнутые духом православного вероучения. Пример тому — статья «О способах преподавания разныя науки» (1785), в которой писатель предложил свою педагогическую систему воспитания юношества. Ядром методики являются «ка-техизмы» преосвященного Платона, архиепископа московского и калужского, и переведенный с французского краткий исторический катехизис господина Флери. Кроме прочего, автор упоминает о катехизисе, сочиненном им лично для собственных детей, в котором исторически выводит «строеніе Божіе отъ начала созданія свѣта, о искупленіи рода человѣческаго» и догматы веры изъясняет16.
В петровскую эпоху «секуляризация морали», ставшая естественным следствием отмежевания институтов светской власти от клерикального мира, повлекла за собой смену жизненных приоритетов. В период расцвета просвещенного абсолютизма политический идеал заметно изменился: Екатерине были близки идеи камералистов о регулярном государстве, объемлющем все сферы жизни человека, включая религию. По словам М. Раева, «основной обязанностью правителя-камералиста являлось попечение о духовной жизни своих подданных и забота о спасении их души» [14, 1224]. Воспитание «добродетельного, истинного гражданина» было целью имперской политики, к достижению которой самодержица стремилась через практику законодательного регулирования жизни граждан и повышение качества школьного образования. Мысль «о катехизисе нравственности» как особом предмете преподавания в народных школах была доминирующей. Необходимость совмещения этического и гражданского образования отмечалась уже в знаменитом «Наказе» 17 . Те же идеи были заложены в Уставе Сухопутного Кадетского Шляхетного корпуса 18 . После издания в 1783 году книги Иоганна Фельбигера воспитание истинного Сына Отечества становится провозглашенным идеалом государственной педагогики.
Таким образом, к моменту создания романа Щербатова воспитанники российских училищ имели возможность изучать обязанности гражданина наряду с правилами нравственности. Естественно, что такая практика не могла быть повсеместной, но она существовала. В этом контексте, например, замечание Кизеветтера о школах Офирии как о скрытом указании на правовую безграмотность российских граждан отражает действительность не совсем верно. Краткий анализ «катехизмов» Щербатова в свете педагогических сочинений XVIII века позволяет прийти к выводу, что в состав офирских «книжек» для юношества включались не только западные, но и оригинальные, отечественные тексты, среди которых немалое число принадлежит самому писателю. Это и проект об училище для купечества, и катехизис, составленный Щербатовым для его детей.
Для культуры второй половины XVIII столетия «книжки» не были художественным преувеличением. Сходным значением в начале века отличалось «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению» (1717). Наряду с цифирью и букварем, оно включало в себя сентенции из Священного Писания, правила поведения в обществе. На первый взгляд, нравственный и гражданский «катехизмы» офирян имели строго утилитарный характер, были направлены лишь на стяжание земных благ. Однако при более пристальном анализе очевидна их связь с истинами христианского закона, который поставляется залогом благосостояния, порядка и мира.
ON THE SOURCES
Дата поступления в редакцию: 01.05.2015
Список литературы Об источниках офирских «катехизмов» князя М. М. Щербатова
- Артемьева Т. В. От славного прошлого к светлому будущему. Философия истории и утопия в России эпохи Просвещения. -СПб.: Алетейя, 2005. -496 с.
- Бугров Д. В. «Надежда» в Антарктиде: загадки офирской утопии князя М. М. Щербатова//Известия Уральского государственного университета. Гуманитарные науки. -2006. -№ 47. -С. 275-291.
- Вагеманс Э. К истории русской политической мысли: М. М. Щербатов и его «Путешествие в землю Офирскую»//Русская литература. -1989. -№ 4. -C. 107-119.
- Кизеветтер А. А. Русская утопия XVIII столетия//Кизеветтер А. А. Исторические очерки. -М., 1912. -С. 29-56.
- Краснов А. Образ будущего Петербурга, Царского Села и Гатчины в романе М. М. Щербатова «Путешествие в землю Офирскую»//Нева. -2006. -№ 4. -С. 271-275.
- Пыпинь А. Н. Полузабытый писатель XVIII вѣка//Вѣстникь Европы. -1896. -№ 11. -C. 264-305.
- Рождественский С. В. Очерки по истории систем народного просвещения в России в XVIII-XIX веках. -СПб., 1912. -Т I. -680 с.
- Святловский В. В. Русский утопический роман. -Петроград: Государственное издательство, 1922. -53 с.
- Харитонов Е. В. Русское поле утопий (Россия в зеркале утопий)//Фантастика 2002. -Вып. 2. -М., 2002. -С. 417-477.
- Чечулинь Н. Д. Русскiй соцiальный романь XVIII вѣка: («Путешествiе вь землю Офирскую г. С. Швецкаго дворянина» -сочиненiе князя М. М. Щербатова). -СПб.: Типографiя «В. С. Балашевь и Кº», 1900. -53 с.
- Black J. L. Citizens for the Fatherland: Education, Educators, and Pedagogical Ideals in Eighteenth Century Russia (East European Monographs, LIII). -Boulder, Colo.: East European Quarterly, 1979. -273 p.
- Marker G. Who Rules the Word? Public School Education and the Fate of Universality in Russia, 1782-1803//Russian History. 1993, vol. 20, pp. 15-34.
- Monnier A. Une utopie russe au siècle de Catherine//Cahiers du monde russe et soviétique. -1982. -Vol. 23. -No. 23 (2). -Pp. 187-195.
- Raeff M. The Well-Ordered Police State and the Development of Modernity in Seventeenth and Eighteenth Century Europe: an Attempt at a Comparative Approach//The American Historical Review. Dec. 1975. -Vol. 80. -No. 5. -Pp. 1221-1243.