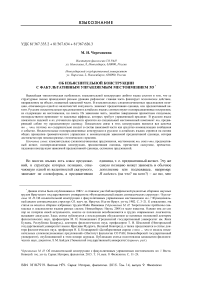Об изъяснительной конструкции с факультативным управляемым местоимением то
Автор: Черемисина Майя Ивановна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 9 т.14, 2015 года.
Бесплатный доступ
Важнейшая типологическая особенность изъяснительной конструкции любого языка состоит в том, что ее структурные звенья принадлежат разным уровням рефлексии: главная часть фиксирует психическое действие, направленное на объект, названный зависимой части. В изъяснительных сложноподчиненных предложения позицию, отвечающую одной из валентностей сказуемого, занимает предикативная единица, или предикативный актант. Русским изъяснительным предложениям в алтайских языках соответствуют полипредикативные построения, не содержащие ни местоимения, ни союза. Их зависимая часть, линейно завершаемая причастным сказуемым, непосредственно принимает те падежные аффиксы, которых требует управляющий предикат. В русском языке показатели падежей и их уточнители-предлоги крепятся на специальный местоименный компонент то, предваряющий собою эту предикативную единицу. Показателем связи в этих конструкциях является вся цепочка то... что, поэтому то содержательно входит в состав зависимой части как средство номинализации сообщения о событии. Изъяснительные полипредикативные конструкции в русском и алтайских языках строятся на основе общих принципов грамматического управления и номинализации зависимой предикативной единицы, которая достигается при помощи разных «технических» приемов.
Изъяснительные сложноподчиненные предложения, местоимение то, pronoun то, союз что, предикатив-ный актант, полипредикативная конструкция, предикативная единица, причастное сказуемое, причастно-падежная конструкция зависимой предикативной единицы, склонение предложений, conjunction что
Короткий адрес: https://sciup.org/147219439
IDR: 147219439 | УДК: 81''367.335.2
Текст научной статьи Об изъяснительной конструкции с факультативным управляемым местоимением то
Во многих языках есть класс предложений, в структуре которых позицию, отвечающую одной из валентностей сказуемого, занимает не словоформа, а предикативная единица, т. е. предикативный актант. Эту же самую позицию может занимать и обычное дополнение или подлежащее, например: Я надеюсь (на что? на кого?) - на то, что
Данная статья была опубликована в 1982 г. в ставшем уже библиографической редкостью сборнике научных трудов Иркутского государственного университета «Функциональный анализ синтаксических структур»: Черемисина М. И . Об изъяснительной конструкции с факультативным управляемым местоимением то // Функциональный анализ синтаксических структур: Сб. науч. тр. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1982. С. 3-21. К сожалению, эта статья не вошла в сборник избранных трудов Майи Ивановны ( Черемисина М. И . Теоретические проблемы синтаксиса и лексикологии языков разных систем. Новосибирск: Наука, 2004) и мало известна. Однако она до сих пор не потеряла своей актуальности, многие ее положения возобновляются в трудах современных лингвистов, вызывают дискуссии. Здесь статья публикуется с последующим обсуждением ее основных положений доктором филологических наук, профессором М. И. Конюшкевич (Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, Республика Беларусь), доктором филологических наук, профессором Т. В. Шмелевой (Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, Великий Новгород), а также продолжается в статье доктора филологических наук, профессора Н. Б. Кошкаревой «Делиберативная скрепа о том ... что и модель изъяснительных сложноподчиненных предложений» (Институт филологии СО РАН, Новосибирский государственный университет), опубликованной в этом номере журнала. Публикация статьи подготовлена кандидатом филологических наук, доцентом Л. М. Байдуж (Тюменский государственный университет) ( примеч. ред. ).
Черемисина М. И. Об изъяснительной конструкции с факультативным управляемым местоимением то // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 9: Филология. С. 11-24.
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2015. Том 14, выпуск 9: Филология
мой экземпляр

АНАЛИЗ СИНТАКСИЧЕСКИХ структур
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ. £
§ 5
‘X
о
Излома не выносить
о>
Черемисина (Новосибирск 7
об изъяснительной конструкции
С ФАКУЛЬТАТИВНЫМ УПРШВЕ^М )£СТОИм£НИЕЯ -*Г0-
Во многих языках есть класс предложений, в структуре которых позицию, отвечая дуд одной из валентностей сказуемого, занимает не схрвофор», а предикативная единица. т»е. предика-тивкуя актант," Эту же саму» позицию может занимать и обычное I дополнение иди подлежащее, например: "Я надеюсь (на что? на кого?) - на то, что дождя не будет; на хорея у в пог еду; на тебя"; "Й сомневаюсь (в чем, ж кем?? - что Ильин способен cue-нить новую программу; в способности Ильина оценить новую про- гранту; ж одаренности Ильина; ж Ильине”; "Меня удивило <уди*и-ла; что? кто?) - то, что ты промолчал; твое молчание; реакция сына; бабушка".
Сложные предложения этого тпш - "Я уверен в том, что критика будет конструктивной"; ’’Меть настаивает, чтобы лето мы провели у неё"; Tfo вина в том, что он промолчал"; "То, что удалось ссхранить молодняк л эту суровую зиму,- заслуга старо-I го чабана" и Т.П. - трактуются грамматиками нечетко и непоследовательно. Неясны* остается их место в обвей системе сложных предложений, их отношение к другим конструкциям, в чем-то по- хожим на них* Прежде всего ото касается фрез, которые различается только наличием или отсутствием местоименного компонента • ■ "тс": "Что брат вернулся, мне известно / То, что брат вернулся, мне известно / Мне известно только (даже) то, что брат верпул-
‘ ' 3
дождя не будет ; на хорошую погоду ; на тебя ; Я сомневаюсь (в чем, в ком?) - что Ильин способен оценить новую программу ; в способности Ильина оценить новую программу ; в одаренности Ильина ; в Ильине ; Меня удивило (удивила; что? кто?) - то , что ты промолчал ; твое молчание ; реакция сына ; бабушка .
Сложные предложения этого типа - Я уверен в том , что критика будет конструктивной ; Мать настаивает , чтобы лето мы провели у нее ; Его вина в том , что он промолчал ; То , что удалось сохранить молодняк в эту суровую зиму , - заслуга старого чабана и т. п. - трактуются грамматиками нечетко и непоследовательно. Неясным остается их место в общей системе сложных предложений, их отношение к другим конструкциям, в чем-то похожим на них. Прежде всего это касается фраз, которые различаются только наличием или отсутствием местоименного компонента то : Что брат вернулся , мне известно / То , что брат вернулся , мне известно .
Реализуется ли в этих фразах одна модель в разных своих вариантах - или это реализация разных моделей, которым должны отводиться разные места в системе классификации?
Неясен и грамматический статус компонента то - как в этих конструкциях, так и во внешне похожих на них построениях типа: То , что я привез для тебя , завтра принесет сестра ; Того , что пробормотал секретарь , я не расслышал ; Тем , что осталось после гостей , я накормлю утром детей ; О том , что сделал этот человек , на Донбассе ходят легенды .
Этим конструкциям посвящено немало специальных работ, авторы которых, конечно, имеют определенные взгляды на них [Красных, 1971; 1973; Ле Нгуен Лонг, 1973; Мигирин, 1948; Шапиро, 1958; Бабайцева, 1962]. Но между ними нет единства - настолько, что я затрудняюсь даже назвать интересующий меня класс предложений, не находя общепринятого термина. Очень трудно поэтому говорить о традиционности или нетрадиционности того подхода к этим конструкциям, который наметился в исследованиях коллектива синтаксистов Отдела филологии ИИФФ СО АН СССР 1 . Специфика нашего подхода к ним определяется
1 ИИФФ СО АН СССР - Институт истории, филологии и философии Сибирского отделения Академии наук СССР. С 1991 г. отдел филологии трансформировался в самостоятельный Институт филологии Сибирского отделения Российской академии наук.
тем, что основным нашим объектом являются алтайские языки Сибири, синтаксис которых глубоко отличен от русского. Но теория сложного предложения, глубоко разработанная в русистике, является для нас важнейшим источником теоретических представлений. В то же время понятно, что идущие отсюда понятия и теоретические расчленения нельзя непосредственно приложить к языкам совершенно друг ого строя - они требуют обобщения и доработки. В связи с этим нам приходится по-своему осмыслять и некоторые факты самого русского языка.
Приведенным выше русским изъяснительным предложениям в алтайских языках соответствуют полипредикативные построения, не содержащие ни местоимения, ни союза. Их зависимая часть, линейно завершаемая причастным сказуемым, непосредственно принимает те падежные аффиксы, которых требует управляющий предикат. Покажу это на одном примере из тувинского языка: Школа чанынга ыяштар олуруп ка-ан-ын-га уруглар чоргаарап турган ‘(тем, что) возле школы деревья по-садили=они, ребята гордятся’. Сказуемое зависимой части - олуруп каанынга - аналитическая форма причастия прошедшего времени на - ан (из - ган ), в 3-м лице (аффикс - ын ) и в дательном падеже (аффикс - га ), которого требует конечное сказуемое, глагол чоргаарап ‘гордиться’ (по-тувински - чему?).
Склонение предложений, - а в данном случае падежную форму принимает именно предложение, т. е. предикативная единица (далее ПЕ), а не одно сказуемое, принимающее падежный аффикс, известно многим древним и новым языкам Востока [Фельдман, 1952; Убрятова, 1976. С. 102; Языки Азии и Африки, 1979; Грамматика..., 1970]. В алтайских языках оно наиболее прямо связано с рассматриваемым типом конструкций.
Характерная особенность этого типа, отличающая его от всех других типов конструкций данного языка и в то же время общая для конструкций разных языков, которые мы будем называть изъяснительными 2, состоит в следующем. Ее зависимая
ПЕ заключает в себе информацию о каком-то событии, на которое направлено психическое действие, выраженное конечным сказуемым. Очевидно, что такое синтаксическое содержание требует для себя какого-то специфического выражения. Эта задача может решаться разными языками по-разному, и с этой точки зрения использование местоимения то , союза что (и некоторых других) в русском языке есть, конечно, «техническая частность», следующая из общего своеобразия флективного строя нашего языка. Алтайские языки используют совершенно другую технику - но для меня несомненна глубинная аналогия между языками в принципах решения этой задачи.
По-русски зависимые ПЕ строятся по тем же принципиальным схемам, что и простые предложения. Их сказуемые имеют финитную форму, которая не принимает падежных флексий. Тем не менее и русский язык находит способ выразить сильное подчинение зависимых ПЕ в этих конструкциях и именно сильное падежное управление. Показатели падежей и их уточнители-предлоги крепятся у нас не на глагол-сказуемое, заканчивающее зависимую часть, как в алтайских, а на специальный местоименный компонент то , предваряющий собою эту ПЕ: Я боюсь того , что ты останешься без жилья ; Я слышал о том , что ты получил премию ; С тем , что сын бросил институт , я уже смирился ; То , что он заболеет , можно было предвидеть .
Традиционно этот компонент оценивается как подлежащее или дополнение в составе главной чести, которое «представляет» в ней зависимую часть. Но сугубо формальный характер этого члена предложения, его семантическая пустота дает основание говорить о местоимении то как о соотносительном слове. В этом качестве оно и признается конструктивным, обязательным элементом местоименно-соотносительных предложений: к нему формально крепится зависимая часть, он служит посредником между нею и главным сказуемым [Грамматика..., 1970].
Я хотела бы отметить особую силу спайки между то и следующим за ним союзом что, проявляющуюся, в частности, в том, что если зависимая ПЕ становится препози- изъяснительными лишь предложения без то, а с то -местоименно-соотносительными.
тивной, то последовательность то ... что никогда не разрывается ( О том , что ты получил премию , я уже слышал ). По-русски нельзя сказать: Что ты получил премию , о том я слышал , хотя можно: Что ты получил премию , я слышал , или Что ты получил премию, об этом я слышал.
Я считаю, что показателем связи в этих конструкциях является именно вся цепочка: то ... что [Гаврилова, 1979. С. 60]. В соответствии с этим, я считаю, что подлежащим или дополнением в этой конструкции является не пустое то , а все вводимое этим способом предикативное построение, а то в его составе является синтаксическим маркером функции. Его особое назначение состоит именно в том, что оно, в силу своей местоименной природы, способно принимать показатели падежей, которых не может принять глагольное сказуемое. Сравним русское: Я рад тому , что ты пришел и Я рад ( ты пришел ) -у (где - у - флексия дательного пад.); алтайск.: Мен сенинг келге-нинг-ге суундим - Я ( ты пришел ) д ат рад.
«Грамматика современного русского литературного языка» различает и противопоставляет друг другу два соотносительных слова: то 1 - с предметным значением ( Он не сводит глаз с того , что лежит на столе ) и то 2, семантически опустошенное, лишенное конкретно-указательного значения ( Утро началось с того , что пригорела каша ) [Грамматика..., 1970. С. 691]. Отмечается, что то2 соотносится с широким кругом союзных средств, но мы сейчас не будем выходить за рамки конструкций с союзом что .
Интересующие нас конструкции с то 2 оцениваются «Грамматикой современного русского литературного языка» как вмещающие: «пустое» то 2 «вмещает в себя» и «вводит в состав главной части» все содержание придаточного как единый семантический компонент. В. А. Белошапкова отмечает близость местоименно-соотносительных «вмещающих» предложений к изъяснительным, предполагающим «непосредственное присоединение придаточной части к опорному слову» [Грамматика..., 1970. С. 692]. Но в силу каких-то причин, может быть случайных, она не поставила вопроса о том, что это могут быть варианты одной и той же модели.
В специальной литературе многократно обсуждался вопрос о том, какие условия за- прещают или разрешают элиминацию или введение то2 во фразах интересующего нас типа [Иванчикова, 1965], однако и в этих работах, насколько я знаю, не ставился вопрос об инварианте такого варьирования. А сам класс, общее множество фраз, где происходит такое варьирование или «смычка» изъяснительных и местоименно-соотносительных форм, считается заданным путем перечисления лексико-семантических групп конечных предикатов, образующих эти конструкции. «Свойством сочетаться с придаточной частью, выступающей в роли объектного определителя или вместе с опорным словом образующей структурную основу предложения, обладают слова определенных лексических групп, из которых наиболее обширными являются группы слов со значениями: 1) речи, мысли, восприятия, чувства, 2) оценки, 3) бытия, обнаружения» [Грамматика..., 1970. С. 701].
Этот вывод, сделанный на материале русского языка, вполне подтверждается нашими исследованиями, проведенными на материале бурятского, тувинского и алтайского языков [Скрибник, 1980. С. 18-20; Черемисина, 1979]. Но сформулированный таким образом он оставляет неясной ту принципиальную специфику изъяснительных конструкций, которая диктует именно такую сочетаемость. Речь, мысль, восприятие, чувство, оценка, обнаружение - что объединяет слова этих семантических групп (а также тех других, которые здесь не названы)? Почему именно они формируют изъяснительные конструкции? И наконец, что такое изъяснительная конструкция, формируемая этими предикатами? Это семантический, функциональный или структурный тип предложений? Как определить его, как отделить от других?
Важнейшую, определяющую типологическую особенность изъяснительной конструкции любого, а не только русского языка я вижу в том, что ее структурные звенья принадлежат разным уровням рефлексии. Слово рефлексия с его психологическими коннотациями непривычно метаязыку лингвистики, но другого термина я не нашла. Это слово подразумевает вторичную обработку сознанием чувственной или вербальной информации. Его синоним осознание не так четко фиксирует идею вторичности этих психических действий, поэтому я останавливаюсь на рефлексии .
Первичной мыслительной операцией, релевантной с позиций лингвистического исследования, я считаю вербализацию содержания сознания. Говоря Солнце село , Мы подошли к реке , мы вербализуем либо непосредственное чувственное восприятие, либо его слепок, запечатленный в памяти, либо чувственное представление, сформированное на базе чужого высказывания и статусно уравненное со слепком в памяти.
Сложное предложение в этом смысле не отличается от простого. Так, в предложении Когда мы вышли к реке , солнце уже село вербализовано представление о двух событиях, соотнесенных во времени. Фраза Он купил цветы , чтобы я подарила их маме тоже вербализует представление о двух событиях, одно из которых представлено как цель другого. Это верно и для причинных конструкций, хотя причинная связь сложней и несколько ближе к той, о которой будет речь ниже: ведь установление причинной связи - это нечто большее, чем простая фиксация объективного положения дел; это всегда более или менее активное, т. е. произвольное толкование говорящим отношений между событиями (сравним: Я не пошел , потому что меня не звали ; Я не пошел , хотя и получил приглашение ). Однако сейчас нам важнее не эта специфика, а то, что объединяет причинные конструкции с другими, противопоставляя их изъяснительным: причинная связь устанавливается говорящими между событиями, которые вербализуются на первичном уровне.
О существовании какого-то другого уровня, «уровня рефлексии», позволяют и заставляют говорить именно изъяснительные конструкции. Их главное (управляющее) синтаксическое звено фиксирует некий психический акт (процесс или его результат), направленный на событие, представленное зависимой (управляемой) частью. Изъяснительная конструкция как особая синтаксическая форма предполагает ступенчатую организацию своего содержания. Главная часть фиксирует свое событие на уровне первичной вербализации, а событие зависимой части сдвигается на ступеньку выше. Уровень, на котором оно располагается, я называю «уровнем рефлексии» потому, что событие представляется здесь как объект «психической переработки».
Рассмотрим это немного подробнее на следующем примере. Фраза Ты приехал непосредственно вербализует чувственное восприятие. Ты приехал. Я рад - две фразы, каждая из которых прямо вербализует «свой» факт. Я рад вербализует эмоциональное состояние говорящего. Во фразе Я радуюсь , потому что ты приехал это эмоциональное состояние получает причинную мотивировку - и только.
Предложение Ты приехал можно произнести так, что интонация непосредственно выразит эмоции говорящего: Ты приехал!!! или Ты приехал?! Но эта реакция, не выраженная словами, не становится отдельным, относительно независимым событием. Статус события она получает, лишь выражаясь отдельной ПЕ.
Адекватной формой первичной вербализации рефлексии, направленной на событие, является форма «главной части» изъяснительной полипредикативной конструкции (далее ППК). Эта форма не тождественна форме простого предложения, выражающего эмоциональное состояние, например, у Есенина: Не жалею , не зову , не плачу. Все пройдет , как с белых яблонь дым . Эта синтаксическая модель не содержит позиции объекта эмоциональной реакции и поэтому фиксирует не реакцию на некоторое событие (важнейшая черта изъяснительности, на мой взгляд), а лишь само состояние субъекта. Главная часть изъяснительной конструкции, наоборот, фиксирует психическое действие, направленное на объект (или результат такого действия). Без объекта оно немыслимо. Поэтому синтаксическая позиция события-объекта в изъяснительной конструкции строго обязательна: именно она конституирует эту конструкцию.
Адекватной формой замещения этой позиции является ПЕ. Конечно, она может замещаться и именным словосочетанием, и существительным или местоимением: Он огорчен отказом директора; Мы обрадовались солнцу; Подумай о сыне (обо мне). Но любое, самое конкретное существительное в этой позиции приобретает событийный смысл: Огорчен тем, что директор ему отказал; Рады тому, что появилось солнце; Подумай о том, что у тебя есть сын (что мне придется трудно). Реконструкция события по предметному имени в принципе неоднозначна, поэтому подобные фразы, совершенно правомерные, регулярные в живом общении, с позиций теории синтаксиса представляют собою свернутые структуры.
Изъяснительная ППК предъявляет к формам обеих своих предикативных частей специальные, глубоко содержательные требования, связанные с тем новым качеством, которое приобретает сообщение о событии под призмой направленной на него рефлексии. Рассмотрим это на следующих примерах: (1) Твоя свадьба не за горами. (2) Он догадывался , что твоя свадьба не за горами . (3) Я знаю , что он догадывался о том , что твоя свадьба не за горами .
Предложение (1) сообщает о ситуации в действительности. Предложение (2) фиксирует тот факт, что это событие было объектом психических действий 3-го лица, которое о нем догадывалось. Предложение (3) сообщает о том, что говорящий (1-е лицо) знает о том, что некто (3-е лицо) догадывался о приближении свадьбы 2-го лица.
Такая цепочка в принципе может быть бесконечной (в этом «лингвистический фокус» побасенки У попа была собака ), и всегда лишь первое звено в цепи принадлежит уровню первичной вербализации. Соотнесенное с ним событие-объект предстает либо как содержание знания, либо как инициатор эмоции, либо как объект оценивания, например: То , что санитарную машину используют не по назначению , - преступление! Когда предикат выражает результат психического действия, поверхностная структура предложения упрощается, глубинная же структура усложняется за счет имплицитного звена типа я считаю ; но в этой статье я не буду рассматривать различные типы отношений, выражаемые разными изъяснительными ППК.
Функциональный сдвиг, который испытывает сообщение о событии, вступая в связь с «модусным» предикатом, выражающим акт или результат рефлексии, наиболее четкое выражение получает с помощью оператора (показателя связи) то ... что.
Синтаксические формы, отвечающие сформулированным выше требованиям, т. е. содержащие «модусное» управляющее звено и зависимое звено, представляющее событие-объект, я называю изъяснительными конструкциями независимо от того, присутствует ли в составе показателя связи местоименный элемент то. Показатель изъяснительной связи то ... что я считаю ва риативным: то ... что / что, где позиция местоименного элемента факультативна. И существование некоторых фраз, не допускающих варьирования показателя (например, Мне совестно, что я вас задерживаю; предикат совестно, в отличие от стыдно, не имеет подлежащной валентности, что не разрешает вводить то, но не препятствует связи через союз что), не считаю аргументом против такой трактовки.
Однако нельзя упускать из виду тот факт, что с устранением из поверхностной структуры фраз элемента то существенно меняется синтаксическая организация этих фраз, иной становится синтаксическая связь ее частей. Потому что именно то и только то способно принимать падежную форму, передающую грамматическое управление. Это обстоятельство я считаю очень серьезным. Можно ли считать управляемым синтаксическое звено без местоименного компонента с падежными аффиксами? Языковое чутье носителей русского языка позволяет им ставить падежный вопрос «от предиката»: знаю - что? радуюсь - чему? жалею -о чем? - независимо от того, есть ли в составе ППК местоименная форма в соответствующем падеже. Сравним реплики диалогов: Чему вы обрадовались? - Тому , что собрание отменили / Что собрание отменили . Возможно, что в глубинной структуре изъяснительных ППК позиция то сохраняется и тогда, когда по законам языка она не может реализоваться во фразе. Например, по-русски нельзя сказать Я видел то , что ты пришел , - но введение частиц - ... только то... - показывает, как будто, что эта позиция сохраняется и «пробуждается», восстанавливается частицами.
Замечу попутно, что все работы, направленные на выяснение условий появления во фразах то , явно или неявно исходят из постулата вариативности этих моделей и / или показателей. Думаю, что теоретического обсуждения, и серьезного, требует не это, а вопрос о лингвистической природе стоящего за ним инварианта. Ибо признаки, которые мы признаем в этом случае вариативными (значит, не дифференциальными?), с позиций классического конструктивного синтаксиса представляются дифференциальными.
В нейтральной, а тем более разговорной литературной речи гораздо употребительней вариант без то. Живая речь всегда эконом- на, из нее устраняется все, что можно устранить без явного ущерба для содержания. Но если нас интересует синтаксический механизм изъяснительной конструкции, мы должны принять за основу вариант с то. Исследовать функции то можно, конечно, лишь на тех построениях, где он есть. Поняв его назначение здесь, можно будет судить о причинах, которые позволяют его элиминировать.
Признавая то ... что сложным показателем связи, мы противопоставляем традиционному членению этой ППК на главную часть, содержащую то в качестве подлежащего или дополнения, и зависимую часть, вводимую союзом что , другое членение: (управляющая часть) ( то , что [зависимая ПЕ, событие-объект]) 3 или: (модус) ( то , что [диктум]).
Это членение не заменяет и не отменяет традиционного, но дополняет его, поскольку эти членения основаны на разных подходах. «Зависимая ПЕ», или диктум, без показателя связи то ... что являет собою правильное, формально законченное предложение, способное самостоятельно функционировать в речи. Показатель связи то ... что организован сложнее обычных многокомпонентных союзов. Его компоненты, то и что , четко разделены интонационно и пунк-туационно, но линейно они связаны жестко: то всегда непосредственно предшествует союзу что .
Какой же специальный смысл это то , принимающее падежные формы, вносит в семантику целого? И в чем его функция пересекается с функцией что ? Ведь если б пересечения не было, то не могло бы элиминироваться, что как-то компенсирует утрату то .
Главное назначение то, как мне кажется, состоит в номинализации сообщения о событии. Общеизвестно, что всякое простое предложение можно рассматривать как про-позиционное имя, имя события, имя ситуации. Но обычно об этом говорят безотносительно к участию предложения в более сложных синтаксических построениях. И большинство типов сложных предложе- ний не требует своими предикативными блоками этой потенции - «быть именами событий»; она становится важной и привлекает внимание лингвистов лишь в связи с выходом за рамки языка-объекта, в сферу метаязыка, - теории языка, логики, гносеологии.
Я понимаю номинализацию как определенную операцию, которая прилагается к предложению-сообщению в рамках языка-объекта, превращая сообщение в имя соответствующего события. В языке-объекте такая операция обязательно предполагает целевую функцию. Ее цель я вижу в том, что она позволяет сделать сообщение объектом дальнейшей грамматической обработки по тем же самым схемам и алгоритмам, по которым мы оперируем с именами вещей и явлений, - существительными. Например: (1) Какая-то дама предложила мне купить фокстерьера - сообщение. (2) То , что какая-то дама предложила мне купить фокстерьера... - не сообщение, «экс-сообщение». Но это такая синтаксическая форма, с которой можно оперировать как с существительным. Ее можно размещать в любых именных позициях, придавая ей различные падежные и падежно-предложные формы. От синонимичного словосочетания Предложение дамы мне купить фокстерьера эта номинализованная форма отличается тем, что в ней полностью сохраняется предикативная структура. Утрачивается лишь коммуникативная самодостаточность, которая компенсируется приобретенной способностью функционировать синтаксически «как существительное».
Такие пропозиционные имена не варьируют в аспекте числа. Но и абстрактные существительные принадлежат категории «сингулариа тантум». Что касается рода, я не считаю, что они его лишены: все они среднего рода, а то, что род у них постоянный, лишь сближает их с существительными, противопоставляя прилагательным. Сравните: То, что ты промолчал, меня удивило - Меня удивило твое молчание - Меня удивила ее болтливость. Но главное, что их ставит в один ряд с существительными, -это, конечно, категория падежа. Падежи этих синтаксических форм выражаются адъективно-местоименными флексиями (-о / - ого / - ому / - о / - ем / - ом), которые крепятся к корню т-, но грамматическая природа их падежей чисто субстантивная: они всецело определяются управлением, исходящим от главного предиката и не имеют никакого отношения к согласованию.
Я уже говорила, что функциональным аналогом русской изъяснительной конструкции в алтайских языках является класс ППК с причастными зависимыми предикатами, которые принимают падежную форму, требуемую конечным сказуемым. Конкретные закономерности управления здесь немного иные: выбор падежа отчетливо регламентируется типовой, а не индивидуальной семантикой конечного предиката. Например, предикаты, выражающие эмоциональную реакцию, требуют дательного падежа, который противостоит винительному как «не эмотивному»; исходный падеж связан с конечными предикатами, выражающими идею «отстранения» ( бояться , брезговать , стыдиться , отказываться ). Но эти отличия выглядят довольно мелкими на фоне глубокого единства общих принципов построения изъяснительных конструкций на основе грамматического управления и достигаемой разными «техническими» приемами номинализации ПЕ.
Сейчас я хотела бы отметить, что именно то общее, что объединяет языки разных систем, разного строя, позволяет четко выделить сам участок языковой системы, который задается функциональной и структурной сопоставимостью составляющих его форм.
Явление, внешне похожее на номинали-зацию, наблюдается и в другом типе конструкций с факультативным местоименным компонентом то - это конструкции, где главная часть представляет обычное, «не модусное» событие, хотя в качестве ее сказуемого могут использоваться те же глаголы, что и в изъяснительных. Сравним: (1) Я догадался ( о том ), что у тебя в мешке белка , (2) Я догадался ( о том ), что у тебя в мешке .
Что здесь представлены разные синтаксические конструкции - это очевидно. Их различие, конечно, «перекрывает» ту специфику, которая связана с элиминацией или введением то (выше я оценила эту разницу как вариантную). Но как описать это существенное различие моделей (1) и (2), имея в виду не только русский язык?
В поверхностной структуре фразы (2) нет слова белка. Во фразе (1) оно является подлежащим зависимой ПЕ; во фразе (2) эту роль выполняет что - а что во фразе (1) оценивается как союз. Соответственно, во фразе (2) что не союз, а союзное слово, совмещающее роли члена предложения и связующей скрепы. Фраза (1) принадлежит, разумеется, изъяснительному типу; фразу (2) отнесем к «отождествительно-анафори-ческому» [Грамматика..., 1970. С. 685-687; Русская грамматика, 1980. С. 530].
Местоименный компонент обеих структур оценивается традицией как соотносительное слово, являющееся дополнением в составе главной части. С моей точки зрения, дополнением в составе изъяснительной конструкции является не то , а предикативная единица, вводимая показателем связи то ... что : то , что... ( у меня в мешке белка ). Во фразе (2) между то и что отношения совершенно иные. Они отнюдь не образуют цепочки, функционирующие как одно целое. Сохраняя каждое собственную падежную форму, подчиняясь каждое своему собственному предикату, эти местоимения образуют структуру совершенно иного рода. Они замыкаются друг на друга по принципу анафоры (точнее, катафоры): и то , и что сами по себе семантически совершенно пусты, они наполняются содержанием извне, но между ними устанавливается четкая формальная связь, содержательной стороной которой является референционное отождествление. Группа ...тоi , чтоj... (где i и j -символы произвольных, взаимно независимых падежных форм) выражает тождество референта (предмета) двух сообщений, который при этом остается прямо не названным. Грамматический смысл этой конструкции можно передать следующей схемой:
предикат-1 ТО, ЧТО предикат-2
X (белка? шило? книги? труп? _?)
Конечно, здесь нет той ступенчатой структуры содержания, о которой говорилось выше. Обе ПЕ расположены на уровне первичной вербализации, хотя я сознательно подобрала пример с главным предикатом, способным формировать и изъяснительные фразы. Но отождествительно-анафориче-ский класс предложений формируется го- раздо более широким классом глаголов. Сравните: Я принес то, о чем ты просил; Мы подарили ей то, что удалось достать; Дети нарисовали то, что было им задано и т. п.
Стоит обратить внимание на принципиальную обратимость этих конструкций -свойство, которое часто связывают с представлением о сочинении: Ты просил о том , что я принес ; Нам удалось достать то , что мы ей подарили . Думается, однако, что эта принципиальная обратимость конструкции (но, конечно, не всех ее фразовых реализаций!) свидетельствует не о сочинении, а об особом «обоюдном», «взаимном» характере связи, которая как раз в этом случае и является «местоименно-соотносительной»; этот механизм вполне соответствует назначению конструкции - отождествлять референты мысли.
Еще одна важная особенность этой конструкции по сравнению с изъяснительной: компонент то сохраняет здесь грамматические категории местоимения то с учетом его субстантивации. Падеж то определяется управлением сказуемого главной части, т. е. он выглядит субстантивным. Однако то сохраняет категорию одушевленности, а за нею и рода: то - тот - та , и числа - те -для референта-лица; что в этом случае меняется на кто : Награждают тех , кто участвовал в фестивале.
Постановка в позицию то слов типа вещь , предмет , для одушевленных - человек , женщина , люди делает возможной такую трансформацию 2-й части, которая превращает конструкцию в определительную: та вещь , которую я купил ; тем детям , чьи матери не работают ; те слова , которых я не расслышал и т. п. С учетом известных ограничений возможна и трансформация глагола в причастие: вещь , купленная мною ; услышанные мною слова ; мальчик , участвовавший в игре . Но такая причастная трансформация возможна и без вовлечения существительного: принеси купленное мною , позови участвующих в игре - и именно в этих случаях совершенно очевидно, что имеет место классическая субстантивация.
Я полагаю, что местоименные компоненты то и что в составе этой конструкции выполняют функцию субстантиваторов, «операторов субстантивации», которой подвергаются предикативные единицы. Если номинализация есть грамматическая опера- ция, переводящая сообщение о событии в пропозициональное имя этого же события, то субстантивация - это другая грамматическая операция, позволяющая представить предикат сообщения как окказиональное имя предмета, которому предицирован данный признак. Подстановка обобщающих существительных - в одном случае типа вещь / человек / слова / ..., в другом - типа событие / ситуация / факт / обстоятельство / ... - это «поверхностная операция», которая позволяет убедиться в этом различии, минуя анализ.
Обратимся теперь к вопросу о назначении компонента что в составе сложного показателя изъяснительной связи то ... что .
Традиция определяет это что как асемантический союз. Но пока еще очень туманно и общее понятие «союз», его границы и внутренняя структура, и понятие «асемантического союза» в его отношении к семантическим. Вовсе неясно и то, является ли, например, союзом что в составе цепочки потому что ; если да - то семантичен или асемантичен этот союз? А если нет - то что это за элемент структуры?
Что в изъяснительной конструкции явным образом не местоимение: оно утеряло все местоименные категории. В сочетании с то, варьирующим по падежам, что выступает, скорее всего, как «прокладка», позволяющая ПЕ вступить в грамматические отношения с то. Но чтобы выполнять эту роль «прокладки», что должно каким-то образом «готовить» ПЕ к вступлению в эти отношения. Мы видели, что склоняемое что прекрасно справляется с ролью субстантивато-ра, становясь само местоименной опорой для предицирования признака. Но в изъяснительной конструкции признак предициру-ется не ему, а другому именному или прономинальному компоненту: структура зависимой ПЕ закончена без что и до его присоединения; что, соединяясь с этой ПЕ, как раз снимает с нее качество предложения, тогда как в местоименно-соотносительных, отождествительно-анафорических предложениях без что не существует еще 2-й ПЕ. Отрезки типа ...что ты приехал, .что баланс не сошелся уже не предложения: это «блоки», готовые к соединению с какими-то другими блоками в составе поли-предикативных целых. И я хотела бы сейчас подчеркнуть, что круг «других» блоков, с которыми эти «синтаксические заготовки» способны соединяться, весьма широк.
Этому грамматическому явлению нелегко подобрать аналогию вне сферы полипре-дикативного синтаксиса. Но мне кажется, что его все-таки можно пояснить сопоставлением с переходами слов из одной части речи в другую, т. е. с процессами их приспособления к выполнению разных функциональных ролей. Глагол, вербум фини-тум, - монофункционален; но зато система глагола богата финитными производными, обслуживающими самые разные несобственно-предикативные функции. Существительное же, наоборот, предельно полифункционально. Оно выступает во всех ролях, оставаясь самим собой, - и потому эти роли бывает не просто разграничить в анализе: определение? дополнение? обстоятельство?
ПЕ в составе большинства типов ППК выполняет те же роли, что имена, всегда как-то приспосабливаясь к каждой из них. И естественно предположить, что должна существовать такая специфическая грамматическая форма, принимая которую, ПЕ оказывается готовой к выполнению относительно широкого круга функций. Такой формой, я думаю, и является форма что ( ПЕ).
Более всего, прямо и непосредственно, эта форма «пригнана» к выполнению обстоятельственных ролей: здесь нужно еще только указать конкретный характер обстоятельственной функции, что легко достигается с помощью стандартизованного набора омертвевших падежно-предложных («приставочных») производных то -местоимения ( потому что , из-за того что , оттого что , несмотря на то что и т. п.). Изъяснительная конструкция предъявляет к зависимой части более сильные, жесткие требования, которых эта форма сама по себе выполнить не могла бы. Роль дополнения при сильно управляющем предикате, требующая от ПЕ падежного оформления, реализуется лишь благодаря вхождению склоняемого то , которое придает всему построению грамматический статус существительного. А это совсем не то же самое, что способность замещать обстоятельственные позиции, которые могут замещаться как существительными, так и наречиями.
Исходя из сказанного, можно попытаться объяснить возможность (и регулярность)
устранения то во фразах изъяснительной конструкции. В построениях с то зависимая часть приведена в формальное соответствие с выполняемой ею функцией дополнения при сильно управляющем предикате с мо-дусной семантикой. Эта зависимая ПЕ, будучи номинализирована, и является актантом, предикативным актантом, т. е. дополнением, если отвечает валентности косвенных падежей, или подлежащим, если отвечает подлежащной валентности. Например, при пассивизированном или оценочном предикате: Меня удивило то , что он не прореагировал на мои слова ; То , что он промолчал , меня удивило ; То , что вы получили такую квартиру , - большая удача ; Нехорошо то , что погода меняется .
Эти предложения, будучи полипредика-тивными, не являются собственно сложными; в собственно сложном предложении должно быть два таких предикативных узла, которые не содержат общих элементов, -здесь же вся зависимая ПЕ является одним из главных членов, подлежащим, другой ПЕ. Эта «ступенчатая» формальная структура, мне кажется, очень адекватна той ступенчатости содержания, о которой я говорила выше.
Что касается дополнения, то русская традиция не включает его в состав конструктивного минимума предложения - в отличие, например, от французской традиции, которая считает прямое дополнение главным, а не второстепенным членом. Отсутствие во фразе явно необходимого дополнения не дает русисту права говорить о том, что фраза есть «неполное предложение». Но мне кажется, что в данном случае эта условность существенно меняет понимание сути дела. Дополнение - такой же необходимый структурный элемент изъяснительной конструкции, без которого она не существует в этом своем качестве.
С элиминацией то связана довольно существенная перестройка синтаксического механизма конструкции. Несмотря на то, что интенция управления, исходящего из модусного предиката, полностью сохраняется, формальные отношения между зависимой частью и главной (непосредственно -ее предикатом) оценить как управление оказывается затруднительно. Управление - это все-таки такая формальная связь, которая предполагает принятие зависимым, управляемым членом группы определенной фор- мы. В данном случае это падежная форма, которую может принять только элемент то. При отсутствии то нарушается формальный параллелизм между предикативными и непредикативными исполнителями обсуждаемой роли - и возникает вопрос: не меняется ли в связи с этим и сама природа этой роли? Падежную форму мы называем дополнением, подлежащим, - актантом, непредикативным или предикативным. Предикативную единицу, вводимую «асемантическим» союзом что, без то с показателями падежа, можно назвать дополнением лишь так же условно, как и несклоняемый инфинитив. Мне кажется, что ни инфинитив, ни построения типа что (ПЕ) не стоило бы так называть; современный уровень наших знаний требует уже более строгих и четких терминов.
Устранение то снимает вопрос об индивидуальном управлении предикатов. Синтаксические отношения между главными и зависимыми формами упрощаются и унифицируются, коль скоро одна и та же зависимая форма оказывается способна сочетаться с любым модусным предикатом, и есть много оснований считать, что мы имеем здесь дело не с управлением, а с примыканием.
Мне кажется, что эти отношения имеют некоторую параллель в отношениях между предикатами и несклоняемыми существительными: идти без пальто , пуговицы к пальто , укройся пальто и т. д. Однако несклоняемые существительные составляют в современном русском языке ограниченный и непродуктивный класс; поэтому, может быть, в конце концов, и не так важно, как мы оценим их отношения с предикатами. А синтаксическая форма что ( ПЕ) - это явление, родившееся на русской почве, и к тому же значительно более регулярное, предпочитаемое носителями языка альтернативной конструкции с то .
В сфере существительных у носителя литературного языка нет выбора: одни существительные склоняются и не имеют «внепадежных» форм, другие не имеют падежных; если выйти за рамки литературного языка, то можно сказать, что несклоняемые имена в условиях ослабления контроля склонны приобретать падежные формы (без пальта, польты кладите сюда и т. п.). В рассматриваемых же нами изъяснительных конструкциях, наоборот, говорящие постоянно оказываются в ситуации относительно свободного выбора между склоняемым и несклоняемым вариантом, и в целом предпочтение отдается последним - в силу чего форма типа то, что (ПЕ) оказывается стилистически маркированной; впрочем, нельзя исключить, что ее специфика не ограничивается сферой стилистики. Это вопрос, требующий специального изучения. Так, с упрощением синтаксического механизма связано вовлечение в сферу модусных предикатов таких лексических форм, которые не имеют падежных валентностей и не могут сочетаться с то (например, совестно ).
Можно ли, с учетом всего сказанного, считать изъяснительные конструкции с то и без то вариантами одной и той же модели-инварианта? Или каждую из них следует признать самостоятельной моделью-инвариантом со своей системой варьирования (например, в аспекте линейного порядка частей и др.)? Однозначного ответа на этот вопрос нельзя будет дать до тех пор, пока основные понятия теории оппозиций не будут доработаны применительно к уровню полипредикативного синтаксиса. И прежде всего это относится к теоретическому представлению о единице этого уровня, которую мы называем моделью .
ON CONSTRUCTIONS WITH OBJECT CLAUSES
WITH OPTIONAL GOVERNED PRONOUN ТО
The most significant typological trait of an object construction of any language is that its structural elements belong to different levels of reflection: the superordinate clause describes a psychic action directed at an object named in the subordinate clause. In complex sentences with object clauses the position accounting for one of the predicate’s valences is taken by a predicative unit, or a predicative actant. In the Altai languages, polypredicative constructions containing neither pronouns nor conjunctions correspond to Russian sentences with object clauses. Their subordinate clauses, finished linearly by a participial predicate, directly accept the case affixes demanded by the ruling predicate. In the Russian language, case markers and their prepositions are fixed by a special pronoun component то , which precedes this predicative unit. In such constructions, the whole chain то ... что serves as a marker of connection, and because of that, то is included in the subordinate clause as means of nominalization of a message regarding a certain event. Polypredicative constructions with object clauses in Russian and Altai are build on similar principles of grammatical government and nominalization of a subordinate predicative unit, which is achieved by various ‘technical’ means.
Дискуссия
Статья М. И. Черемисиной «Об изъяснительной конструкции с факультативным управляемым местоимением то » вышла в 1982 г., но до сих пор не потеряла своей актуальности.
Во-первых, слово то как полифункциональная единица языка, несмотря на множество посвященных ему работ, еще не открыло всех своих тайн. Его спаянность с союзом что в рассмотренном виде сложных предложений – одна из этих замеченных М. И. Черемисиной особенностей: «“Зависимая ПЕ”, или диктум, без показателя связи то ... что являет собою правильное, формально законченное предложение, способное самостоятельно функционировать в речи. Показатель связи то ... что организован сложнее обычных многокомпонентных союзов. Его компоненты то и что четко разделены интонационно и пунктуационно, но линейно они связаны жестко: то всегда непосредственно предшествует союзу что » [Черемисина, 1982. С. 12].
Во-вторых, в статье обращено внимание на специфику изъяснительных конструкций, лежащих в сфере не онтологии, а гносеологии, или, по выражению М. И. Черемисиной, «рефлексии».
В-третьих, обращение автора к фактам алтайских языков показало универсалию: «Алтайские языки используют совершенно другую технику – но для меня несомненна глубинная аналогия между языками» [Там же]. «Показатели падежей и их уточнители-предлоги крепятся у нас не на глагол-сказуемое, заканчивающее зависимую часть, как в алтайских, а на специальный местоименный компонент то, предваряющий собою эту ПЕ» [Там же. С. 5]. Таким образом, у то отмечено еще одно свойство - быть формальной «флексией» придаточной части, «синтаксическим маркером» ее функции [Там же. С. 6].
Причем, и это в-четвертых, отмечена еще глубинная функция то : «Главное назначение то , как мне кажется, состоит в номинализации сообщения о событии» [Там же. С. 12]. «“То, что какая-то дама предложила мне купить фокстерьера...” - не сообщение, “экс-сообщение”. Но это такая синтаксическая форма, с которой можно оперировать как с существительным. Ее можно размещать в любых именных позициях, придавая ей различные падежные и падежно-предложные формы» [Там же. С. 13].
В-пятых, и это, на мой взгляд, самое важное для перспективы исследований в области релятивной грамматики, М. И. Черемисина отметила особую функцию союза что в рассматриваемых конструкциях: в сочетании с то , варьирующим по падежам, что выступает, скорее всего, как «прокладка», позволяющая ПЕ вступить в грамматические отношения с то [Там же. С. 15]. Подобные «прокладки» в языке видны всюду - интерфиксация в словообразовании, суффиксоид -й- в основе формы настоящего времени глаголов во избежание зияния гласных на морфемном шве ( чита- й -эт ), обеспечение грамматической связи между словами в предложениях с описательными предикатами (ср.: Университет готовит специалистов -Университет осуществляет подготовку специалистов ; Таня скромна - Таню отличает скромность ). В синтаксисе за подобными строевыми единицами закрепился термин «экс-пликатор». М. В. Всеволодова показала, что в функции экспликатора может выступить и знаменательное слово (ср..: шел в университет , но вошел в здание университета ), и предлог ( сидеть ближе к сцене ).
М. И. Черемисина, возможно вскользь, но завершает статью ключевой для дальнейших исследований фразой: «Этому грамматическому явлению нелегко подобрать аналогию вне сферы полипредикативного синтаксиса. Но мне кажется, что его все-таки можно пояснить сопоставлением с переходами слов из одной части речи в другую, т. е. с процессами их приспособления к выполнению разных функциональных ролей» [Там же. С. 17].
Приведенные примеры, а также динамичное втягивание знаменательной лексики в поле предлога - ярчайшее доказательство того, как прозорливы были наблюдения М. И. Черемисиной только над одной синтаксической структурой.
Сборник «Функциональный анализ синтаксических структур» я получила в подарок от иркутян, и многое в нем оказалось интересным. Но открывающая его статья Майи Ивановны вызвала просто восторг, который, надо сказать, не кажется преувеличенным и сейчас. Статья - явно из лучших в богатом творческом багаже Майи Ивановны.
Чем она дорога мне? По крайней мере, несколькими моментами.
Первый. Статья показывает, что если есть нечто объективное в устройстве языка, то оно будет названо и понято при разных подходах. Вот Майя Ивановна не числится в последователях Шарля Балли, но сама - своим собственным путем приходит в этой статье к тому, что важнейшее место в языке занимают конструкции, отражающие рефлексию автора по поводу событий - модус-диктумная, или изъяснительная конструкция, как ее ни назови.
Второй очень важный момент. В этой статье Майя Ивановна дает прекрасный урок трехаспектного анализа предложения. Она совершенно замечательным образом увязывает смысловые характеристики, формальные показатели и актуальные различия.
Третий - самый фантастический - момент. Майя Ивановна рассуждает о русских предложениях и одновременно об аналогичных явлениях во всех - только ей известных - языках. Отсюда возникает это фантастическое ощущение, что можно изучать Язык Вообще. Конечно, это высший пилотаж синтаксиса, доступный только Майе Ивановне, но лингвистическое наслаждение, которое испытывает читатель - я в данном случае, - трудно с чем-то сравнить. Ну если только с присутствием на конференциях по сложному предложению во всех на свете языках в Новосибирске, на которые Майя Ивановна приглашала и меня, всегда числившую себя «моноглотом».
Наконец, пленительный образ автора. Ведь нельзя же думать, что он есть только в художественных текстах. Прежде всего, автор, говорящий о себе я , - большая редкость, есть в тексте и мы, но это реальное мы : основным нашим объектом являются алтайские языки. Однажды Майя Ивановна публиковала статью в нашем красноярском сборнике. Статья начиналась со слов «Я исхожу...». Издательский редактор предлагала заменить на МЫ, но я сказала, что никогда не посмею сделать Майе Ивановне такое предложение. Когда передавала сборник и рассказала о своей уловке, Майя Ивановна заключила: «Давно пора кончать с этим мыканьем!». Это не мелочь - мы снимает с автора часть ответственности.
Самое удивительное и вместе с тем привлекательное: автор не просто выкладывает результаты своих заключений, а ставит вопросы ( Реализуется ли в этих фразах одна модель в разных своих вариантах - или это реализация разных моделей , которым должны отводиться разные места в системе классификации? ), ищет ответы, сомневается, не знает ( Слово «рефлексия» с его психологическими коннотациями непривычно метаязыку лингвистики , но другого термина я не нашла ; Вовсе неясно и то , является ли , например союзом «что» в составе цепочки «потому что»... ) и т. д. Статья напоминает репортаж из мест научного поиска.
Хорошо понимаю, что на этой статье внимание Майи Ивановны к изъяснительной конструкции не оборвалось. Из этих размышлений вышли темы диссертаций [Рудяк, 1979; Дебренн, 1985; Мюлляр, 1989] и какие-то еще работы, которые я не знаю.
Думаю, что статья хрестоматийная - т. е. ее надо печатать в хрестоматиях и по ней учить лингвистов, аспирантов в первую очередь. Во всяком случае, я учусь по ней - сколько уже лет? Более тридцати. С любовью и неизменным восхищением автором - Майей Ивановной Черемисиной.
Список литературы Об изъяснительной конструкции с факультативным управляемым местоимением то
- Бабайцева В. В. Лексико-грамматические функции указательных слов // Русский язык в школе. 1962. № 6.
- Гаврилова Г. Ф. Усложненное сложное предложение в русском языке. Ростов н/Д, 1979.
- Грамматика современного русского литературного языка. М.: Изд-во АН СССР, 1970.
- Иванчикова Е. А. О структурной факультативности и структурной обязательности в синтаксисе // Вопросы языкознания. 1965. № 5.
- Ле Нгуен Лонг. Сложные предложения с обязательным местоименным словом то: Автореф. дис.. канд. филол. наук. М., 1973.
- Мигирин В. Н. Соотносительные слова // Изв. / Крымский гос. пед. ин-т. Симферополь, 1948. Т. 14.
- Красных В. И. Об употреблении коррелятов в изъяснительном предложении // Русский язык в национальной школе. 1971. № 3. С. 75-81.
- Красных В. И. Сложноподчиненные изьяснительные предложения в современном русском языке: Автореф. дис.. канд. филол. наук. М., 1973.
- Русская грамматика. М.: Наука, 1980.
- Скрибник Е. К. Выражение субъекта в системе зависимой предикации (на материале бурятского языка): Автореф. дис.. канд. филол. наук. М., 1980.
- Убрятова Е. И. Исследования по синтаксису якутского языка. Новосибирск: Наука, 1976. Т. 2. Ч. 1. Сложное предложение.
- Фельдман Н. И. О реальном и фиктивном склонении предложений в современном японском языке // Учен. зап. Ин-та востоковедения АН СССР. М., 1952.
- Черемисина М. И. Некоторые вопросы теории сложного предложения. Новосибирск, 1979. С. 40-49.
- Шапиро А. Б. Об одной синтаксической конструкции в русском языке // Сборник статей по языкознанию. М.: Изд-во МГУ, 1958.
- Языки Азии и Африки. М., 1979.