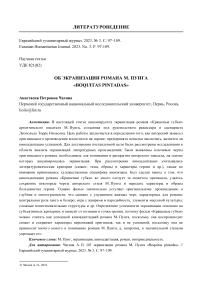Об экранизации романа М. Пуига «Boquitas pintadas»
Автор: Чагина А.П.
Журнал: Евразийский гуманитарный журнал @evrazgum-journal
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3, 2023 года.
Бесплатный доступ
В настоящей статье анализируется экранизация романа «Крашеные губки» аргентинского писателя М. Пуига, созданная под руководством режиссера и сценариста Леопольдо Торре Нильсона. Цель работы заключается в определении того, как авторский замысел оригинального произведения воплотился на экране; предпринята попытка заключить, является ли киноадаптация успешной. Для достижения поставленной цели были рассмотрены исследования в области анализа экранизаций литературных произведений; были выявлены ключевые черты оригинального романа, необходимые для понимания и раскрытия авторского замысла, на основе которых анализировалась экранизация. При рассмотрении киноадаптации учитывались литературоведческие критерии (сюжет, тема, образы и характеры героев и др.), также во внимание принималась художественная специфика киноязыка. Был сделан вывод о том, что киноадаптация романа «Крашеные губки» во много следует за сюжетом оригинала, удалось сохранить некоторые черты авторского стиля М. Пуига и передать характеры и образы большинства героев. Однако фильм значительно уступает оригинальному произведению в глубине и многогранности, что связано с упущением важных черт, характерных для романа: центральная роль танго и болеро; игра с жанрами и пародийность; элементы массовой культуры; сложные повествовательные структуры и др. Определение успешности экранизации основано на субъективных критериях и зависит от позиции и точки зрения, поэтому фильм «Крашеные губки» можно считать как успешной киноадаптацией романа М. Пуига, поскольку она воспроизводит сюжет и сохраняет характеры персонажей оригинала, так и не успешной, поскольку она не привносит ничего нового в понимание романа М. Пуига, а, напротив, в значительной степени упрощает его.
М. пуиг, экранизация, киноадаптация, роман, интермедиальность
Короткий адрес: https://sciup.org/147241948
IDR: 147241948 | УДК: 821(82)
Текст научной статьи Об экранизации романа М. Пуига «Boquitas pintadas»
Романы аргентинского писателя Мануэля Пуига ( Manuel Puig , 1932–1990), представителя «нового» латиноамериканского романа, кинематографичны по своей природе и наполнены многочисленными отсылками к миру кинематографа, будь то упоминания именитых голливудских актрис первой половины ХХ в., цитаты или аллюзии к кинокартинам. Эта черта литературного видения М. Пуига напрямую вытекает из его биографии. Будущий писатель родился в небольшом провинциальном городе Хенераль Вильегас посреди аргентинской пампы. Его отец был строгим, авторитарным человеком, тогда как мать, напротив, отличалась мягким характером и во всём поддерживала сына и его увлечения. Именно она привила М. Пуигу любовь к кинематографу ещё в раннем детстве. Юный М. Пуиг стремился сбежать в мир кино от неприглядной реальности и ненавистных
Н АУЧНЫЙ ЖУРНАЛ № 3, 2023 99 консервативных устоев окружавшего его мира (см. об этом [Mujica 1986]), и, повзрослев, решил связать свою жизнь и профессию с кинематографом: он мечтал стать сценаристом и творить кино.
Однако, оказавшись на обучении в итальянском Экспериментальном Киноцентре (Centro Sperimentale di Cinematografia), М. Пуиг постепенно разочаровался в своей мечте: «El Centro de mal en peor. Hubo un poco de trabajo y se lo dieron todo a los italianos. Es lógico pero no me hace ninguna gracia» [Puig 2005: 90]. Пытаясь разобраться в своей жизни и понять, как в тридцать лет он оказался на другом континенте без работы и перспектив, М. Пуиг принялся за сценарий, основанный на его собственном детстве, который вылился в первый роман «Предательство Риты Хейворт» ( La traición de Rita Hayworth , 1968). Тем не менее, именно кинематограф сформировал М. Пуига как писателя, и он активно применял всё богатство возможностей, предлагаемых кинематографом, в литературном творчестве [Levine 2012: 50].
Поэтика кино проявляется в романах М. Пуига через драматизирующие повествование диалоги без авторского слова. Подобные диалоги позволяют воспринимать повествование как развивающееся «здесь и сейчас» по кинематографическому принципу. Кроме того, диалог выстраивается и на уровне текста как целого, а автор вступает в опосредованный разговор с читателем. М. Пуиг часто прибегает к выразительным средствам кино, среди которых монтаж, игра цвета, визуальные образы, фоновая музыка. Благодаря использованию приёма «вездесущей камеры» создаётся ощущение повышенной правдивости повествования, выстраивается саспенс, создающий атмосферу тревоги, что отражает неоднозначное восприятие писателем мира и судьбы человека в нём. Романы М. Пуига наполнены отсылками к голливудскому кино первой половины ХХ в. Такие «киноцитаты» обращаются к общекультурному опыту читателя и играют значимую роль в развитии сюжета и раскрытии характеров героев. Ключевым для творчества М. Пуига является образ кинодивы.
Представляется, что подобная кинематографичность литературного творчества делает романы М. Пуига «идеальными» для переноса на экран. И действительно, три из восьми опубликованных романов М. Пуига были экранизированы: «Крашеные губки» ( Boquitas pintadas , 1969; экранизирован в 1974), «Ангельский пол» ( Pubis Angelical , 1979; экранизирован в 1982) и «Поцелуй женщины-паука» ( El Beso de la Mujer Araña , 1976; экранизирован в 1985). Тем не менее, не все они оказались успешны среди критиков и зрителей. Так, на кинопортале IMDb1 оценка фильма «Boquitas pintadas» составляет всего 6.9/10, тогда как «Pubis Angelical» набрал ещё меньше – всего 5.9/10. «Kiss of the Spider Woman», тем не менее, получил 7.3/10 пунктов. В настоящей статье обратимся к экранизации романа «Крашеные губки» и постараемся определить, что удалось или не удалось кинематографистам, а также заключить, можно ли считать экранизацию успешной.
Основная часть
Проблема интерпретации и оценивания киноадаптаций появилась вместе с самим кинематографом, поскольку с момента своего изобретения кино активно прибегало к использованию литературного и театрального материала [Мильдон 2007: 6]. К экранизациям обращались и продолжают обращаться как отечественные, так и зарубежные кинематографисты (Л. И. Гайдай, Г. М. Козинцев, Ф. Ф. Коппола, С. Кубрик, Э. А. Рязанов, В. И. Пудовкин, А. Хичкок и др.). Заметим, что отношение к экранизации литературных произведений менялось со временем (от полного отказа от неё до признания за экранизацией самостоятельности), а споры о самой возможности переноса литературного произведения на экран не утихают и сегодня.
Заметим, что, с одной стороны, многие исследователи экранизаций рассматривают их как перевод с одного художественного языка на другой, сводя проблему экранизации к «переводимости» [Мильдон 2007: 12]. С другой стороны, существует противоположное мнение: понимать экранизацию как «перевод» с языка литературы на язык кино некорректно из-за их принципиального различия, а любая экранизация является самостоятельным творческим феноменом, функционирующим по своим законам [Арутюнян 2003; Козинцев 1973]. Тем не менее, многие исследователи согласны с тем, что точкой соприкосновения литературы и кинематографа, которая делает возможным сам факт экранизации литературного произведения, является принцип повествовательности [Агафонова 2008; McFarlane 1996], заложенный в обоих видах искусства.
Ряд вопросов вызывает определение критериев успешности киноадаптации. Отметим, что, несмотря активное изучение взаимодействия литературы и кино, не существует единой системы объективных критериев сравнения экранизации и её первоисточника, а оценка киноадаптации основывается преимущественно на субъективных представлениях [Игнатов 2007]. Так, Дж. А. Вагнер полагает экранизацию возможной и предлагает три пути киноадаптации литературного произведения, каждый из которых правомерен: когда вмешательство кинематографиста минимально (transposition); когда кинематографист, намеренно или нет, искажает оригинал из-за поставленных перед ним задач (commentary); когда оригинал полностью изменяется ради создания нового произведения искусства (analogy) [Wagner 1975: 222]. Б. МакФарлейн считает необходимым отказаться от оценочного сопоставления оригинала и экранизации, при этом отмечает, что существуют общие сюжетные элементы, которые могут быть перенесены из оригинала в фильм без потерь («transfer»), и то, что невозможно сохранить в полной мере («adaptation») [McFarlane 1996: 13]. Иначе говоря, экранизация может быть успешна, независимо от сохранения в ней особенностей и характеристик оригинального произведения.
Несколько иного взгляда придерживаются отечественные исследователи. Согласно В. И. Мильдону, экранизация имеет смысл только тогда, когда «становится самостоятельной художественной ценностью», для этого она должна передавать «значения оригинала, невыразимые словами» [Мильдон 2007: 205], если же экранизация ничего не добавляет, то её можно считать лишь кинопересказом, то есть вторичным текстом. Схожей позиции придерживается О. А. Леонтович, полагая, что «экранизация не является простым слепком или отпечатком оригинального произведения – автор всегда привносит нечто свое, переструктурируя и перекомбинируя смыслы текста-источника» [Леонтович 2010: 145]. Таким образом, экранизация может быть успешной лишь тогда, когда ей удается выразить то содержание оригинала, которое невозможно выразить словами.
Кроме того, оценивать экранизацию литературного произведения возможно как с применением общей методологии анализа игрового фильма, так и с позиции литературоведения. Например, Т. Н. Романова и Л. И. Черемных предлагают сравнивать экранизацию и книгу по литературоведческим критериям: сюжет, время и место действия, образы героев, атмосфера, речь героев, тема и идея [Романова, Черемных 2010: 70]. Однако представляется, что при анализе экранизации важно учитывать художественную специфику самого кино. Так, значимую роль играет присущее кинематографу «повествование изображением», поскольку литературный сюжет воспроизводится на экране изображением, дающим образу чувственно-конкретное воплощение [Фрейлих 2015], воздействие которого на зрителя отличается от воздействия литературного, словесного образа на читателя [Агафонова 2008: 5]. Кроме того, необходимо принимать во внимание и звуковую составляющую кинематографа, т. к. именно современный звукозрительный монтаж является основой «полифонического построения фильма, преодолевшего каноны классической драматургии» [Фрейлих 2015]. Также важно помнить о том, что кино неспособно обращаться к прошлому как таковому, поскольку всегда развивается в настоящем [Damour 1996].
Таким образом, при анализе экранизации романа М. Пуига «Крашеные губки», мы будем основываться как на литературных критериях, так и учитывать специфику художественной выразительности кинематографа (повествование изображением, звуковое сопровождение, монтажные приемы и пр.).
Экранизация романа «Крашеные губки»
Второй роман М. Пуига «Крашеные губки» вышел в свет в 1969 г. Как и в «Предательстве Риты Хейворт», действие разворачивается в небольшом провинциальном городе Коронель Вальехос, прототипом которого стал родной город писателя. В центре повествования – повседневная жизнь и «любовные драмы» жителей города. Используя любовные клише, такие как архетипический герой-любовник (имя одного из главных героев Хуан Карлос отсылает к Дон Жуану), любовный треугольник, несчастная любовь, предательство, смерть и др., и пародируя бульварный любовный роман (обратим внимание на подзаголовок романа «folletín»), автор поднимает острые социальные проблемы (положение женщины в обществе, навязывание социальных ролей, давление общества на индивида и др.) и обличает пороки аргентинского общества тех лет. Роману свойственна игра с читателем и обращение к поп-культуре, характерные для литературы эпохи постмодернизма.
Роман «Крашеные губки» был перенесён на экран в 1974 г. Режиссёром и сценаристом выступил Леопольдо Торре Нильсон (Leopoldo Juan Torre Nilsson, 1924–1978), один из известнейших мастеров аргентинского кинематографа, неоднократно занимавшийся экранизациями (среди них киноадаптации произведений Х. Борхеса, А. Б. Касареса, К. Лафойет, Х. Эрнандеса и др.). Фильм был удостоен «Серебряной раковины» и специальной премии жюри на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне1.
Рассмотрим подробнее ключевые составляющие романа и то, как они были (или не были) перенесены на экран.
Сюжет и хронотоп
В центре произведения – жизнь шести главных персонажей: Нене, Мабель, Селины, Рабадильи, Хуана Карлоса и Панчо. Сюжет строится вокруг взаимоотношений (часто любовных) героев, показывая перипетии и хитросплетения их судеб. Кинокартина следует за сюжетом романа, сохраняя ключевые эпизоды. Заметим, что повествование в романе непоследовательно: текст постоянно переносится из прошлого в настоящее и обратно, в том числе в рамках одной главы. Однако в киноленте сюжет развивается более последовательно. С одной стороны, это обусловлено природой самого кинематографа, в котором время всегда условно настоящее, поскольку действие развивается перед зрителем «здесь и сейчас», т. е. кино не знает прошлого времени, что в некоторой степени «сглаживает» переходы между разными промежутками времени. С другой стороны, на «плавность» киноповествования повлияло опущение некоторых эпизодов романа, что может быть связано с художественными приёмами, которые невозможно перенести на экран, и ограниченностью хронометража самого фильма.
Важно, что для романа характерно многообразие повествовательных форм, к которым прибегает М. Пуиг: диалоги без авторского слова, письма, записки, дневники, заметки из ежедневника, фотографии, газетные вырезки, опущение собеседника и т. д. Многое из этого не попало в экранизацию (например, ежедневник Хуана Карлоса, вставки из женского журнала, куда писала Мабель, внутренние монологи героев, дневниковые записи и др.), тогда как письма героев заняли центральное, сюжетообразующее место в кинокартине. Такое решение кинематографистов закономерно, поскольку и в романе письма являлись своего рода «каркасом», вокруг которого выстраивался сюжет, что удалось сохранить в экранизации: как и в романе, зритель сначала сталкивается с письмами Нене, затем с письмами Хуана Карлоса, которые Нене просила вернуть, и, наконец, с письмами Селины, сестры Хуана. Именно последние являются поворотными в сюжете обоих произведений, поскольку вскрывают обман Селины, желающей отомстить Нене, якобы виновной в смерти Хуана Карлоса.
Как отмечает О. А. Леонтович, «то, что в романе изложено линейно, последовательно (к примеру, сначала – внешность героя, потом какие-либо его действия), в фильме возникает синхронно, что уже само по себе воздействует на восприятие» [Леонтович 2010: 147]. В экранизации «Крашеных губок» обозначенная проблема обостряется. Так, роман начинается с газетного некролога, посвященного кончине Хуана Карлоса, после чего
Н АУЧНЫЙ ЖУРНАЛ № 3, 2023 103 следуют письма Нене его матери, в которых она приносит соболезнования, рассказывает о своей жизни и просит прислать ей письма Хуана Карлоса, которые он писал, находясь на лечении в Коскине. Таким образом, читатель не знает ничего о внешности героини, а об её быте и жизни узнаёт из писем и комментариев между ними, выделенных курсивом, т. е. сама героиня появляется в «кадре» значительно позже. Тогда как в экранизации зритель сразу же погружается в повседневную рутину Нене, наполненную заботами о доме, муже и детях. Лишь почти на четвертой минуте фильма (00:03:45) Нене из газеты узнаёт о гибели бывшего возлюбленного и, терзаясь сомнениями, решается написать его матери. Мы видим, как она всё больше погружается в воспоминания, а центром её жизни становятся письма, ведь только они способны отвлечь её от ненавистного быта. Постепенно ожидание ответа превращает жизнь Нене в пытку, она становится всё более раздражительной, что приводит к конфликту с мужем. Схожая ситуация происходит с эпизодом предсказания цыганки. В романе (глава 6) перед читателем предстаёт лишь монолог гадалки, и только из контекста можно предполагать о том, кто является её клиентом, тогда как в экранизации зритель сразу видит Хуана Карлоса в шатре цыганки.
Отметим ещё один эпизод. После писем Нене начинаются титры (00:11:45), которые идут на фоне фотокарточек Хуана Карлоса, начиная с детских лет, и других персонажей. Здесь кинолента также следует за романом, где после двух глав, содержащих письма Нене, в третьей главе описывается фотоальбом Хуана Карлоса, а затем комната Мабель, где тоже встречаются фотографии. С тем отличием, что в романе на обороте некоторых фотокарточек есть подписи, уже проливающие свет на отношения героев («Detrás de la fotografía se lee el siguiente texto: “Mi amor éste fue el día más felis de mi vida. ¡Nunca soñé que pudiera hacerte mía! <…>”» [Puig 2000: 21]), тогда как в фильме о романе между Мабель и Хуаном Карлосом станет известно значительно позже (на двадцать седьмой минуте). Следует за романом и окончание фильма: муж Нене по её последней просьбе сжигает письма Хуана Карлоса, которые героиня хранила всё это время, так и не прочитав их. В кадре мы видим, как горят письма, а закадровый голос Хуана Карлоса озвучивает отрывки из них (01:56:19–01:57:04). Так и роман заканчивается сожжёнными письмами и отрывками из них: <…> «...Muñeca, se me termina el papel...» «...porque ahora siento que te quiero tanto...» «...mirá, rubia, ya de charlar un poco con vos me siento mejor ¡cómo será cuando te vea...» «...te quiero como no he querido a nadie...» <…> [Puig 2000: 107].
Интересным образом был компенсирован параллелизм присущий роману. Так, в киноленте параллельный монтаж появляется во время смерти Хуана Карлоса (01:37:23– 01:38:42) и Нене (01:54:20–01:55:30). Когда умирает Хуан Карлос, зритель видит Нене, моющую посуду, потом Мабель, флиртующую с очередным мужчиной, могилу Панчо, Рабу, кормящую кур. Эпизоды сопровождаются закадровыми предсмертными хрипами Хуана Карлоса и напряжённой музыкой, которые затихают лишь на эпизоде с Рабой. Наконец мы видим похороны Хуана Карлоса. Аналогично происходит и со смертью Нене: окруженная семьёй она умирает в собственной постели. Затем в кадре появляются сначала могила Хуана Карлоса, затем Мабель, ведущая урок в школе, могила Панчо, Раба с дочерью, отправляющаяся навестить сына. Вновь за кадром слышны предсмертные вздохи героини и та же напряженная музыка. Затихают они снова на эпизоде с Рабой, когда та в разговоре с дочерью вспоминает про Нене. Параллельный монтаж показывает, как течёт жизнь других персонажей, как герои стали далеки друг от друга, как разошлись их судьбы и каков их финал. В эпизоде смерти Панчо тоже присутствует параллелизм. Раба по просьбе хозяйки дома, матери Мабель, зарезает курицу: камера приближается и показывает крупным планом птицу, слышны её вопли (01:19:20–01:19:40). Затем в кадре появляется сцена с обнаженными Мабель и Панчо. Когда Панчо уходит от Мабель, он встречает в саду Рабу. В кадре мы видим лишь руку девушки, сжимающую нож, на фоне белого подола её ночной рубахи, и Панчо в полный рост (01:21:11). Белый цвет её одежды олицетворяет невинность, которую украл Панчо, обесчестив девушку и бросив её одну с ребенком. Раба убивает Панчо тем же ножом, что и курицу.
Представляется, что, хотя сюжет киноленты во многом следует за сюжетом романа, практически копируя многие эпизоды, опущение некоторых деталей и художественных приёмов влияет на восприятие сюжета и, пусть и незначительно, искажает его.
Образы героев
Заметим, что образы героев во многом сохранены и даже в некоторой степени обогащены за счёт «визуального повествования». Актёрская игра, мимика, жесты и интонация звучащего голоса позволяет восполнить то, что было выпущено в характерах персонажей из-за отсутствия тех или иных моментов и литературных художественных приёмов, которые невозможно воплотить средствами киноязыка. Так, смуглая кожа Рабы и Панчо, а также их простая по сравнению с другими персонажами одежда подчёркивают низкое происхождение этих героев. А утончённые наряды Мабель напротив говорят о её более высоком социально-классовом статусе по сравнению с остальными.
Авторам экранизации удалось передать самовлюблённость и эгоизм Хуана Карлоса, чьим главным интересом являются азартные игры и женщины: мы часто видим его играющим в карты; его постоянно окружают девушки, которые с готовностью уделяют ему внимание, что подчёркивает красоту и неотразимость героя. Постоянный кашель позволяет показать серьёзность его болезни, а частые напоминания окружающих о том, что он должен больше заботиться о своём здоровье, ещё раз указывает на то, что Хуан Карлос предпочитает игнорировать проблему. Лишь оказавшись на лечении в Коскине и столкнувшись со смертью, герой осознаёт всю серьёзность своей болезни. Так, когда он узнаёт о смерти молодой красивой девушки, с которой познакомился в столовой всего несколько дней назад, в кадре крупным планом мы видим шокированное лицо героя: он не может поверить в её смерть, ведь она казалась вполне здоровой (00:53:50–00:53:55). Увидев брошенных умирать в одиночестве постояльцев лечебницы и пансиона, Хуан Карлос готов изменить свою жизнь, и даже собирается жениться на Нене, ведь она единственная продолжала писать ему, давая надежду на исцеление и будущее. Тем не менее, в итоге он возвращается к своим привычкам и прежнему образу жизни. Даже умирает Хуан Карлос за игрой в карты.
Хорошо передан и образ Мабель, которая ведёт себя самоуверенно и откровенно по сравнению с остальными героинями. Девушка постоянно заигрывает с мужчинами и с готовностью приглашает их в свою спальню, несмотря на наличие жениха. Так, когда Хуан Карлос отправился на лечение в Коскин, она заменила его Панчо, лучшим другом Хуана. Даже будучи замужем, Мабель заигрывает с продавцом в магазине одежды (01:38:01– 01:38:27). Характер героини дополняется визуальной составляющей: мимика, жесты, особенно улыбка и взгляд актрисы, исполнившей её роль, подчёркивают игривость и кокетливость Мабель. Фильму удалось показать эгоистичность и решительность героини, её готовность пойти на всё ради собственного благополучия.
В отличие от Мабель, Нене стесняется своих желаний, она излишне беспокоится о мнении окружающих, о своем статусе и положении в обществе. Так, она не готова впустить в свой дом Рабу, которая приехала в Буэнос-Айрес на заработки, потому что стесняется своей пустой, не обставленной квартиры. Заметим, что визуальный ряд позволяет показать некоторую двуличность и лицемерие героини. Так, она хвалит подарок Мабель на свадьбу, а позднее мы видим, что он так и лежит не распакованный в шкафу: камера задерживается на светильнике (01:07:25), когда закадровой голос Нене озвучивает её письмо, адресованное Мабель, и позднее светильник по-прежнему в пленке, спрятанный в шкаф, выделяется крупным планом (01:17:45). Кроме того, в фильме Нене становится центральным персонажем, поскольку сюжет в большей степени сосредоточен на ней: именно её закадровый голос мы слышим чаще всего. Это частично лишает фильма многоголосия, присущего роману.
Представляется, что наибольшие изменения претерпел характер Рабадильи. В романе Раба была простой девушкой из бедной семьи, которая мечтала о счастливом финале, как в фильмах, которые она так любила, где бедная служанка выходит замуж за богатого господина и живёт долго и счастливо. В экранизации мечтательность героини практически исчезает, а её увлечение танго и кино полностью проигнорировано. Кроме того, в эпизоде, когда Раба покидает Буэнос-Айрес и разговаривает с Нене по телефону в последний раз, она шантажирует подругу и требует, чтобы та принесла ей на вокзал что-нибудь для малыша в обмен на молчание о состоянии квартиры Нене (01:16:57–01:17:28). Тогда как в романе Нене сама предложила передать подарок для Рабы и малыша:
– ¿A qué hora sale el tren mañana? Porque si querés te llevo alguna ropa mía usada.
– A las diez de la mañana sale. Pero mejor si tenés algo nuevo para el Panchito. Que necesita más que yo.
– Y, mucho tiempo no voy a tener, si encuentro algo se lo compro [Puig 2000: 67].
Более того, в романе Нене первая прощается с Рабой, тогда как в фильме точку в разговоре ставит последняя, после чего довольно улыбается. Это придает характеру Рабы черты, которых она была лишена в романе, будучи самой простой и навивной из всех героинь.
Тема и атмосфера
Отметим, что роман носит пародийный характер, и важную роль в сюжете и «атмосфере» произведения играет обращение к массовой культуре, что не всегда сохранено и удачно передано в экранизации.
Так, значительной потерей является практически полное отсутствие танго и болеро в фильме. В романе каждая глава сопровождается эпиграфом, представляющим собой строки из танго и болеро. Эпиграфы, с одной стороны, отражают авторскую точку зрения и позволяют вступить автору в опосредованный диалог с читателем, с другой – они обращаются к общекультурным знаниям читателей, вызывая определенные ассоциации, что влияет на восприятия событий, развивающихся в той или иной главе. Вместе с тем, жизнь героев тесно переплетается с танго и болеро: они слушают танго и болеро по радио, цитируют строки из них или используют клишированные фразы, проигрывают в голове их сюжеты. В экранизации же танго играет по радио только в начале, когда Нене убирает посуду после ужина, погруженная в мысли о Хуане Карлосе (00:06:12), и в конце, когда догорают письма Хуана Карлоса (01:57:04). Заметим, что акцент с танго и болеро в фильме сместился на танцы в целом. Так, камера крупным планом показывает конверт, в котором Нене отправляет письма, с изображением танцующей пары (00:04:48) и покрывало на постели уже покойного Хуана Карлоса (01:48:30), где также изображена танцующая пара. Одним из центральных эпизодов в фильме становится танцевальный вечер, на котором Хуан Карлос и Нене танцуют вальс. Мы видим развитие отношений героев: с момента репетиции, где они по воле случая оказались в одной паре (00:22:10), до самого вечера танцев, где они выступили с вальсом (00:23:00), а затем, когда все уже разошлись, герои продолжают танцевать одни посреди пустого зала (00:23:37). Там же зарождается конфликт Селины и Нене. Тем не менее, несмотря на наличие танцев в романе, ключевое значение для сюжета играют именно танго и болеро, поскольку автор противопоставляет идеологию танго, которой на словах так стремятся следовать герои, реальному положению вещей.
Также из экранизации исчезла радионовелла, которую слушали Мабель и Нене. Обсуждая радионовеллу, девушки говорили о своей жизни, об отношениях с мужчинами в целом и с Хуаном Карлосом в частности. Радионовелла не только в очередной раз подчеркивает разность взглядов Мабель и Нене, но и пародийность романа, которая практически утрачена в экранизации. Заметим, что режиссер пытался восполнить её через нарочито комические изображения некоторых сцен, например, когда Нене вспоминает о том, как началась её связь с доктором, у которого она работала медсестрой (00:16:35), или когда инсценируются ложные показания о смерти Панчо (01:22:19). Однако представляется, что этого недостаточно для воссоздания атмосферы романа.
Заметим, что в экранизации удалось передать некоторые художественные приёмы, присущие стилю М. Пуига. Так, в романе есть диалоги без слов автора, в которые вплетаются мысли героев, выделенные курсивом. Например, когда Панчо взбирается на изгородь, чтобы починить радиоантенну, и встречает Мабель (именно тогда начинается их роман):
– Perdone que ande por este tapial, que si no ponemos una antena no oímos la radio, y los presos se me van a andar quejando, los presos no ven nunca a una mujer
– Y usted también querrá escuchar, no diga que no... negro barato, le brillan el cuello y las orejas, se lava para blanquearse compro [Puig 2000: 68].
Или когда Селина приходит к вдове, чтобы попросить её держать в тайне отношения с Хуаном Карлосом:
– Mire, ante todo quiero que usted me prometa no contárselo a nadie, orillera chusma, vas a sufrir sin contárselo a la vecina
– Se lo juro por lo más sagrado. ¿Dios no me castigará que estoy jurando?
– ¿Por quién? si jurás por mi hermano te escupo
– por Juan Carlos no me animo Por la felicidad de mi hija [Puig 2000: 80].
В фильме мысли героев в этих эпизодах озвучены закадровым голосом (01:12:23–01:15:32 и 01:23:54–01:26:44 соответственно). Это позволяет зрителю, как и читателю, узнать, что на самом деле скрывается за словами героев, их истинное отношение друг другу, раскрыть их характеры и подчеркнуть лицемерие, замаскированное притворной вежливостью.
Заключение
Экранизация «Крашеных губок» режиссёра Л. Торре Нильсона во многом следует за романом М. Пуига, сохраняя не только сюжетные повороты, но и некоторые художественные приемы писателя. Можно заключить, что Л. Торре Нильсон стремился передать не только центральную тему романа, но и сохранить его атмосферу. Характеры главных героев на экране во многом соответствуют их книжным прототипам (за исключением Рабадильи), а визуальная и аудио составляющие дополняют образы персонажей, позволяя компенсировать опущения.
Тем не менее, в фильме лишь частично сохранены или вовсе отсутствуют некоторые особенности оригинального произведения, которые представляются ключевыми для раскрытия и понимания авторского замысла: многоголосие и множественность точек зрения; параллели с танго и болеро, а также противопоставление идеологии танго и действительности; игра с читателем (зрителем) и жанрами; использование элементов массовой культуры и др. Хотя авторам киноадаптации удалось показать двуличность и лицемерие героев, отметить проблемы и пороки провинциального общества, почти стертая пародийность приближает экранизацию скорее к мелодраме, т. е. к тому жанру, который пародировался в оригинальном произведении. Всё это во многом лишает фильм глубины и многогранности, которая была свойственна роману М. Пуига. Некоторая недосказанность романа и его сложная повествовательная структура подталкивают читателя к размышлениям, тогда как фильм значительно упрощает проблематику оригинала.
Говоря об успешности экранизации, стоит помнить, что она основана на субъективных критериях и зависит, как от совпадения понимания оригинала читателем/зрителем и кинематографистами, так и от характеристик, которые выбраны для оценивания. Таким образом, с одной стороны, киноадаптацию «Крашеных губок» можно считать успешной, поскольку она в полной мере передает сюжет оригинала и до определённой степени сохраняет стиль автора оригинала. С другой – экранизация не только не привносит ничего нового в понимание романа М. Пуига, но и лишает его ряда ключевых черт, что свидетельствует о несостоятельности фильма как адаптации литературного произведения и приближает его к кинопересказу.
Список литературы Об экранизации романа М. Пуига «Boquitas pintadas»
- Агафонова Н. А. Общая теория кино и основы анализа фильма. Минск: Тесей, 2008. 392 с.
- Арутюнян С. М. Экранизация литературных произведений как специфический тип взаимодействия искусств: дис. ... канд. ф. наук. М., 2003. 155 с.
- Игнатов К. Ю. От текста романа к кинотексту: языковые трансформации и авторский стиль (на англоязычном материале): дис. ... канд. филол. наук. М., 2007. 196 с.
- Козинцев Г. М. Пространство трагедии (Дневник режиссера). М.: Искусство, 1973. 232 с.
- Мильдон В. И. Другой лаокоон, или о границах кино и литературы: эстетика экранизации. М.: РОССПЭН, 2007. 223 с.
- Леонтович О. А. Проблемы интерсемиотического перевода (на материале зарубежных экранизаций русской классики) // Наука телевидения. 2010. № 7. С. 144-157.
- Романова Т. Н., Черемных Л. И. Экранизация как прием раскрытия идейно-художественного содержания литературного произведения // Проблемы романо-германской филологии, педагогики и методики преподавания иностранных языков. Пермь: Изд-во «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет», 2010. № 8. С. 68-73.
- Фрейлих С. И. Теория кино: От Эйзенштейна до Тарковского: учебник для вузов. 4-е изд. М.: Академический проект: Фонд «Мир», 2007. 512 с.
- Damour J. P. Cinéma et littérature // Dictionnaire des littératures de langue française. A-D. Paris, 1996. P.487-488.
- Levine S. J. Manuel Puig: Edipo ronda La Pampa // Cuadernos de literatura. № 31. 2012. P. 48-64.
- McFarlane B. Novel to Film: An Introduction to the Theory of Adaptation. Oxford.: Clarendon Press, 1996. 296 p.
- Mujica B. The Imaginary Worlds of Manuel Puig / Américas, Vol. 38, No. 3, May-June, 1986. P. 2-7.
- Puig M. Querida familia: Tomo 1. Cartas europeas (1956-1962), compilación, prólogo y notas de Graciela Goldchluk, asesoramiento cinematográfico de Ítalo Manzi. Buenos Aires: Entropía, 2005. 393 р.
- Wagner G. A. The Novel and the Cinema. Fairleigh Dickinson University Press: Rutherford, NJ.: 1975. 394 p.