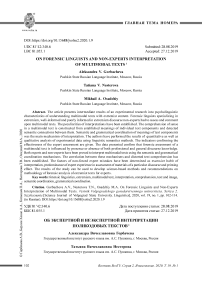Об экспертной и неэкспертной интерпретации поликодовых текстов
Автор: Горбачева Александра Вячеславовна, Нестерова Татьяна Вячеславовна, Осадчий Михаил Андреевич
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Главная тема номера
Статья в выпуске: 1 т.19, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье представлены результаты промежуточного этапа экспериментального исследования психолингвистических особенностей понимания поликодовых текстов экстремистской направленности. Установлены особенности интерпретации текстов группами судебных экспертов-лингвистов и респондентов, хорошо или мало информированных о фактах экстремистского дискурса. Материал исследования включает оценки и комментарии контрольного и экспериментального стимульного материала. Представлены результаты анализа экспериментальных данных методами лингвистической семантики и количественного анализа. Приведены показатели, подтверждающие эффективность экспертной оценки. Выявлена значимость дискурсивных знаний для корректной интерпретации поликодового текста. Доказано, что эксперты и неэксперты интерпретируют тексты, используя механизмы семантического и грамматического согласования. Определена взаимосвязь между этими механизмами и возникновением искаженного понимания текста. Некорректные экспертные интерпретации экспериментального материала объясняются эффектом переобученности интерпретированию. Результаты представленного в работе исследования могут быть применены для разработки методических рекомендаций и научно обоснованной методики судебно-экспертного анализа поликодовых текстов.
Судебная лингвистика, экстремизм, поликодовый текст, интерпретация, понимание, текст и изображение, семантическое согласование, грамматическое согласование
Короткий адрес: https://sciup.org/149131531
IDR: 149131531 | УДК: 81’42:340.6 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2020.1.9
Текст научной статьи Об экспертной и неэкспертной интерпретации поликодовых текстов
DOI:
Современная практика судебной лингвистической экспертизы показывает, что объектом исследования все чаще становится информация, представленная в семиотически сложных формах, таких как демотиваторы, мемы, страницы пользователей и сообществ в социальных сетях, песни, аудиокниги, подкасты, видеоклипы, фильмы, блоги и влоги. Интенсивная цифровизация всех режимов социального взаимодействия и рост доступности средств электронной коммуникации дает основания полагать, что в дальнейшем доля поликодовых текстов в объеме материалов, поступающих на судебную экспертизу, будет только увеличиваться, что обусловливает пристальное внимание к проблемам экспертной оценки таких объектов. В настоящий момент главная из них – это частотность расхождений в интерпретации смысла поликодовых текстов, факты которых регулярно фиксируются в рецензиях на экспертные заключения. Как представляется, указанная проблема связана с отсутствием единых научных подходов к методике анализа поликодовых текстов, учитывающих лингвистические, психолингвистические и психофизиологические закономерности их восприятия и понимания.
В данной статье описаны промежуточные результаты междисциплинарного экспериментального исследования, которое направлено на уточнение сведений о принципах интерпретации поликодовых текстов разными группами респондентов. Полученные данные могут быть применены для разработки научно обоснованной методики анализа текстов такого типа в экспертной деятельности лингвистов.
В отечественной традиции поликодовые тексты теоретически осмысляются начиная с середины 70-х годов [Ейгер, Юхт, 1974]. Российские исследователи концентрируют внимание на проблеме отношения вербальной и невербальной составляющих поликодовых текстов [Ариас, 2012; Вашунина, 2008], решают задачи по разработке алгоритмов интерпретации их отдельных жанров и дискурсов [Анисимова, 2003; Ариас, 2012; Ворошилова, 2013]. В последнее десятилетие изучение поликодо-вых текстов стало междисциплинарным направлением на стыке когнитивной психологии и лингвистики, вследствие чего на первый план вышли исследования закономерностей восприятия и понимания поликодовых текстов [Ворошилова, 2013; Злоказов, 2011; Сонин, 2006] и поиск методик анализа их содержания [Ворошилова, 2017].
В зарубежной традиции за три последние десятилетия, с начала интенсивной разработки этой темы в работах Г. Кресса и Т. ван Левена [Kress, Leeuwen, 1996], исследование полико-довых текстов (multimodalanalysis) превратилось в развитое направление с устойчивым репертуаром научных подходов. Значимыми для судебно-экспертной практики могут считаться выросшие из системно-функциональной лингвистики М. Халлидея [Halliday, 1978] социосе-миотический [Kress, Leeuwen, 1996; 2001; Leeuwen, 2005] и системно-функциональный подходы к анализу поликодового дискурса (см., например: [Baldry, Thibault, 2006; O’Halloran, 2008]). В работах специалистов по социальной семиотике каталогизируются различные виды семиотических средств, принадлежащие к тому или иному дискурсу, а также разрабатывается грамматика образов, в том числе описываются значения, выражаемые физическими параметрами компонентов изображения (композиция, положение персонажей относительно адресата, направление их взглядов и др.). В рамках системно-функционального подхода поликодовый текст определяется как событие, результатом которого является отдельное специфическое значение, порождаемое во взаимодействии конкретных семиотических средств (semioticresources). Исследование и описание взаимодействия семиотических средств для получения специфической единицы информации составляет методологическую основу системно-функционального анализа поликодовых текстов. Достижения этих двух направлений, при условии дополнения их некоторыми положениями функциональной грамматики и лингвистической семантики, могут быть положены в основу разработки эффективного инструментария для анализа поликодовых текстов в судебно-экспертных целях.
Методология и методика исследования
Цель исследования – проверка гипотез о психолингвистических особенностях понимания семиотически неоднородной информации, а также выявление особенностей экспертного и неэкспертного понимания поликодовых текстов экстремистской направленности [Горбачева, Варламов, 2018; Горбачева, Пучкова, Осадчий,
2018; Пучкова, 2018]. В исследовании использовано понятие когнитивного концепта как единицы знания [Болдырев, Магировская, 2009; Сонин, 2006; Barsalou, 1992; Fodor, 1998]). Опираясь на традиционные представления нейрофизиологов и когнитивных психологов о принципах возникновения и хранения в памяти индивидуальных человеческих знаний о мире (см. обзор работ в [Горбачева, Варламов, 2018]), а также на новые экспериментальные данные о наборах контекстов, достаточных для реконструирования предмета речи [Pilatova, 2019], мы определили единицу знания как набор признаков репрезентируемого элемента реальности, который состоит из его регулярных и нерегулярных характеристики отношений с другими элементами реальности.
Основу методологии исследования составляют концепция системно-функционального подхода и положения лингвистики и психолингвистики о механизмах понимания смыслового содержания текста. Эти положения начали разрабатываться в лингвистике более шестидесяти лет назад [Косериу, 1969] и в своем современном состоянии формулируются в виде закона и правил семантического согласования: «Основной закон семантического сочетания слов сводится к тому, что для того, чтобы два слова составили правильное сочетание, они должны иметь, помимо специфических, различающих их сем, одну общую сему» [Гак, 1998, с. 279]; эти общие семы «итеративны, то есть в данном сообщении они встречаются неоднократно (по меньшей мере дважды), благодаря чему и осуществляют связь наименований на расстоянии... В такой итеративной функции может оказаться любая сема; мы будем называть ее ... «связующий семантический компонент» [Гак, 1998, с. 280]. Ю.Д. Апресян, уточняя положение о повторяемости сем, подчеркивает, что к правильному пониманию текста приводит выбор такого осмысления, «при котором повторяемость семантических элементов достигает максимума» [Апресян, 1995, с. 14].
В качестве материала исследования из российской судебно-экспертной практики были отобраны 30 текстов формата «статическое изображение + письменное высказывание», которые ранее были квалифицированы как содержащие лингвистические и психологи- ческие признаки различных типов правонарушений экстремистского характера в соответствии с методикой РФЦСЭ при Минюсте России [Кукушкина, Сафонова, Секераж, 2014]. Из их числа исключены тексты, не прошедшие проверку методом сходимости экспертных оценок внутри коллектива лингвистов. К 21 экспериментальному тексту подобраны контрольные тексты, аналогичные по количеству и степени сложности изобразительных знаков, не содержащие признаков правонарушений согласно действующему законодательству Российской Федерации.
В описываемой серии эксперимента приняло участие 42 человека. До начала эксперимента все участники были письменно проинформированы о том, что с целью проведения научного исследования им будут предъявляться материалы различного, в том числе экстремистского, характера. В эксперименте приняли участие респонденты, отличающиеся по степени осведомленности о содержании экстремистского дискурса, – группа судебных экспертов-лингвистов с опытом проведения исследований по материалам дел о противодействии экстремизму (11 человек) и группа неэкспертов, хорошо и мало информированных о фактах экстремистского дискурса (15 и 16 человек соответственно). Степень информированности устанавливалась посредством анкетирования респондентов, отвечавших в том числе на вопросы о том, насколько часто в повседневной жизни они сталкиваются с по-ликодовыми текстами формата «статическое изображение + письменное высказывание» и текстами экстремистского содержания.
В первой части эксперимента участникам в случайном порядке демонстрировались отобранные поликодовые тексты. При помощи последовательной демонстрации стимулов со сходным содержанием моделировалось влияние предшествовавшего контента на восприятие и понимание последующих стимулов (эффект прайминга [Солсо, 2006]) как фактор риска экспертной ошибки. После предъявления стимула респондентам предлагали оценить посредством возможных ответов «да», «нет», «затрудняюсь», является ли текст экстремистским, а затем дать структурированный устный комментарий, содержащий описание того, что видит испытуемый, и объяс- нение смысла увиденного. Респонденты не были ограничены во времени при просматривании стимула и обдумывании ответа. Объем комментария рекомендовалось ограничить тремя-пятью развернутыми высказываниями.
Во второй части эксперимента респондентам предлагалось найти и при помощи маркера обозначить в просмотренных текстах смысловые связи между изображением и письменным высказыванием, а также устно пояснить, в чем состоят взаимосвязи между элементами текста. Респонденты имели право сообщить, если обнаружить взаимосвязи не удавалось, и не комментировать текст. При разметке взаимосвязей ограничений во времени на обдумывание и в объеме комментария не устанавливалось. Запрет на выделение связей между элементами изображения также отсутствовал.
В ходе эксперимента комментарии респондентов фиксировались при помощи аудиозаписывающего устройства и в дальнейшем дословно расшифровывались. Впоследствии их содержание сопоставлялось и анализировалось с опорой на разметку взаимосвязей в стимулах методом компонентного анализа лексики комментариев. Если мнение респондента о смысле текста или отдельных его компонентов во второй части эксперимента изменялось, исследовался последний вариант интерпретации стимула.
Результаты и обсуждение
В таблице 1 представлены результаты оценки текстов, произведенной респондентами в первой части эксперимента.
Из приведенных данных видно, что при распределении оценок контрольных и экстремистских стимулов наблюдаются отличия как между различными группами респондентов, так и внутри групп. При оценке контрольных стимулов эксперты дали наибольшее количество верных ответов (82,14 ± 15,65 % vs. 66,55 ± 16,46 % для хорошо информированных и 56,37 ± 21,19 % для мало информированных неэкспертов), допустили наименьшее ошибок (11,51 ± 11,06 % vs. 19,80 ± 11,29 % и 15,92 ± 10,85 % соответственно), а также реже неэк-спертов сомневались в оценке (6,35 ± 8,09 % vs. 13,65 ± 11,33 % и 27,71 ± 15,77 % соответ-
Таблица 1. Оценка стимулов
Table 1. Stimuli assessment
Картина оценок экстремистских стимулов отличается от картины по контрольным текстам прежде всего незначимыми различиями в количестве правильных ответов всех трех групп респондентов. Это может происходить вследствие того, что бóльшая часть отобранных текстов характеризуется эксплицитным выражением экстремистского сообщения при помощи общеупотребительных семиотических средств. В свою очередь такая ясность сообщений соответствует коммуникативным целям пропаганды, поскольку успешность распространения идеи напрямую зависит от того, понятна ли она потенциальному адресату. Кроме того, абсолютное большинство респондентов имели неполное или полное высшее образование, что позволяет говорить о наличии у них сформированного навыка анализировать разнородную информацию. Обращают на себя внимание результаты экспертной оценки экстремистских стимулов. Так, в отношении экстремистских текстов эксперты сомневались чаще, чем по поводу контрольных, что с опорой на комментарии респондентов объясняется недостатком дискурсивных знаний и невозможностью воспол- нить его в условиях информационной изоляции в ходе эксперимента. Причиной сомнений также оказывалась совокупная недостаточность обнаруженных признаков для определения характера сообщения. В то же время возросло число ложноотрицательных оценок экстремистских стимулов, что может объясняться одновременным влиянием двух факторов – недостаточностью диагностированных компонентов смысла текста для положительного вывода и действием этической пресуппозиции эксперта, которая в профессиональном кругу формулируется как «лучше не найти, чем найти». В целом интерпретация данных дает основание полагать, что для определения характера текста может оказаться значимым симультанное наличие дискурсивных и специальных знаний. Об этом также свидетельствуют результаты, полученные по отдельным стимулам, о которых речь пойдет ниже.
Приведенные в таблице 1 показатели фиксируют значительное отклонение по ответам отдельных респондентов от усредненного показателя оценок внутри их групп. Действительно, некоторые стимулы респонденты различных групп понимали и оценивали с существенными отличиями от средних величин (табл. 2).
Для выявления причин снижения успешности оценки был произведен анализ комментариев, относящихся к пяти стимулам, оценки которых характеризуются наибольшим отклонением от среднего. Ниже представлены результаты анализа на примере одного из этих стимулов (рисунок в табл. 2).
Используемый в качестве примера текст содержит призыв придерживаться граммати- ческих норм в письменной речи. Отправитель призыва – русскоязычные представители международного движения граммар-наци, которые позиционируют себя как сторонников соблюдения норм литературного языка, радикальных борцов за чистоту речи и используют визуальные аналогии с национал-социализмом, в том числе стилизацию буквы G под нацистскую свастику. Это значение текста было принято нами в качестве инварианта эталонной интерпретации. Анализируя количественные показатели оценки данного контрольного стимула, мы обратили внимание на резко возросшее число затруднений при квалификации этого текста у хорошо информированных и мало информированных неэкспертов (50,00 % vs. 13,65 ± 11,33 % и 40,00 % vs. 27,71 ± 15,77 % соответственно). В то же время сомнения экспертов оказались близки к средним показателям для контрольных текстов (8,33 % vs. 6,35 ± 8,09 %), но значительно возросло число допущенных ими ошибок (25,00 % vs. 11,51 ± 11,06 %).
Сравнение результатов семантического анализа комментариев обеих частей эксперимента показало, что наряду с эталонной интерпретацией у респондентов возникло 7 повторяющихся неэталонных вариантов интерпретации этого стимула, которые представляют собой различные комбинации следующих четырех смыслов, присутствующих в ответах испытуемых всех групп: 1) пропаганда идеологии нацизма через визуальные отсылки к ней – цвета флага Третьего рейха, изображение нацистского офицера (присутствует в 33,3 % неэталонных интерпретаций); 2) побуждение верно изображать представленный ис-
Таблица 2. Пример стимула со значительным отклонением от среднего
Table 2. An example of stimuli with significant deviation from the mean value
|
Стимул |
Группа респондентов |
Кол-во верных оценок стимула, % |
Кол-во неверных оценок стимула, % |
Кол-во ответов «затрудняюсь оценить», % |
|
Эксперты |
66,67 |
25,00 |
8,33 |
|
|
^Н ПИШИ ВЕРНО И |
Хорошо информированные |
35,71 |
14,29 |
50,00 |
|
IA * ^ х^1 |
Малоинформированные |
26,67 |
33,33 |
40,00 |
|
Контрольный стимул |
каженным символ нацизма – нацистскую свастику (присутствует в 65,2 % неэталонных интерпретаций); 3) пропаганда идеологии нацизма через указание на Гитлера посредством символа G как его инициала и изображения нацистского офицера (присутствует в 33,3 % неэталонных интерпретаций); 4) побуждение вести себя «верно», то есть в соответствии с идеологией нацизма (присутствует в 12,5 % неэталонных интерпретаций).
Компонентный анализ лексики комментариев с опорой на разметку взаимосвязей в стимуле продемонстрировал, что эталонные и неэталонные варианты интерпретации коррелируют с ограниченными наборами установленных респондентами смысловых взаимосвязей, пересекающими по составу только частично.
При неэталонных интерпретациях и при отсутствии какой-либо интерпретации были обнаружены следующие взаимосвязи и соответствующие повторяющиеся в лексике комментариев семы, обусловливающие семантическое согласование: (1) изображение человека с атрибутами нацистского офицера / Гитлера – символ, сходный с нацистской свастикой (сема соотнесенности с нацизмом); (2) изображение человека с атрибутами нацистского офицера –использование цветов, форм и углов флага нацистской Германии (сема соотнесенности с нацизмом); (3) изображение человека с атрибутами нацистского офицера – слово «ВЕРНО» (грамматическая сема образа действия + сема качества действия); (4) символ, сходный с нацистской свастикой – использование цветов, форм и углов флага нацистской Германии (сема соотнесенности с нацизмом); (5) символ, сходный с нацистской свастикой – слово «ПИШИ» / надпись «ПИШИ ВЕРНО» (грамматическая сема объекта воздействия); (6) буква G, опознаваемая как инициал Гитлера –изображение человека с атрибутами нацистского офицера (грамматическая сема субъекта + сема имени субъекта); (7) неопознаваемый символ – слово «ПИШИ» / надпись «ПИШИ ВЕРНО» (грамматическая сема отношения).
Варианты эталонной интерпретации включали семантические признаки, характерные для эталонных и неэталонных интерпретаций, и коррелируют со следующим набо- ром взаимосвязей и общих сем: (2) изображение человека с атрибутами нацистского офицера – использование цветов, форм и углов флага нацистской Германии (сема соотнесенности с нацизмом); (3) изображение человека с атрибутами нацистского офицера – слово «ВЕРНО» (грамматическая сема образа действия + сема качества действия); (7) неопознаваемый символ – слово «ПИШИ» / надпись «ПИШИ ВЕРНО» (грамматическая сема отношения); (8) символ граммар-наци – изображение человека с атрибутами офицера нацистской Германии (сема соотнесенности с нацизмом); (9) символ граммар-наци – использование цветов, форм и углов флага нацистской Германии (сема соотнесенности с нацизмом); (10) символ граммар-наци – слово «ПИШИ» / надпись «ПИШИ ВЕРНО» (сема группы лиц + сема объекта действия + сема образа действия); (11) надпись «ПИШИ ВЕРНО» – изображение человека с атрибутами нацистского офицера (сема отправителя сообщения); (12) надпись «ПИШИ ВЕРНО» – изображение человека с атрибутами офицера нацистской Германии (сема угрозы наказания).
При сравнении наборов взаимосвязей эталонных и неэталонных интерпретаций обнаруживается различие в определении значения одного и того же символа. Все респонденты, которые неэталонно интерпретировали стимул или сообщили о невозможности его интерпретировать, во время эксперимента указали, что не осведомлены о значении изображенного символа. В то же время 94,7 % респондентов с эталонной интерпретацией в комментариях информировали, что владеют информацией о движении грам-мар-наци. В таблице 3 показано распределение описанных смысловых взаимосвязей относительно эталонных (Э), неэталонных (НЭ) вариантов интерпретации и отсутствия интерпретации (0) с учетом фактора знания (+) / незнания (–) о движении граммар-наци.
Представленное распределение показывает, что варианты эталона обязательно включают взаимосвязь, построенную на знании характеристик движения граммар-наци и его соотношения с национал-социализмом. При этом неэталонные интерпретации складываются в результате комбинирования регуляр-
Таблица 3. Распределение смысловых взаимосвязей и фактор знания / незнания
Table 3. The distribution of meaning correlation and awareness / lack of awareness factor
Неверное установление значения смыслообразующего компонента текста или невозможность его установить, как видно из таблицы 3, не влечет, однако, принципиальной невозможности выстроить взаимосвязи, необходимые для наполнения текста каким-либо иным смыслом. Компонентный анализ лексики комментариев демонстрирует, что недостаток эталонных семантических связей при попытке понять текст компенсируется заполнением пустующих грамматических (синтаксических) валентностей и наложением на образующиеся грамматические связи случайных семантических повторов. Так, в ряде неэталонных интерпретаций «ПИШИ» с незаполненной объектной валентностью и неэталонно опознаваемый символ дают значение ‘пиши символ’. С опорой на вновь возникшую синтаксическую конструкцию «ВЕРНО» (A+), семантически противоположное ‘неверно, неправильно’ (A–), по семе ‘правильность’ получает случайное семантическое согласование с символом G, который в действительности связан с нацистской свастикой только смысловыми отношениями отлично-сти по форме, но по причине навязанного значения объекта воздействия оказывается семантической мишенью для слова «ВЕРНО» и единовременно приобретает комплект взаимосвязанных значений ‘неправильность формы’ и ‘нацистская свастика’. В других вариантах интерпретации сирконстант «ВЕРНО» по повтору грамматической семы образа действия связывается с изображением нацистского офицера как с отсылкой к доктринам национал-социализма, и таким образом респонденты обнаруживают в стимуле положительную оценку идеологии нацизма. Это соотносится с закономерностью реализации грамматического согласования, отмеченной Ю.Д. Апресяном: «А, грамматически согласованное с В, заимствует у последнего определенные значения в данном тексте», в то время как «семантически согласованные друг с другом слова Л и В не приобретают общие смысловые элементы в тексте, а имеют их еще в словаре» [Апресян, 1995, с. 14].
Наш пример показывает, что существует возможность обнаружения грамматической взаимосвязи между семантически не связанными компонентами поликодового текста за счет приписывания одному из них «чужих» категориальных значений, что в дальнейшем может служить основой для наращения изначально отсутствующей семантики. Таким образом, взаимодействие речевого и изобразительного компонентов так или иначе построено на наличии повторяющейся семы, которая заполняет либо семантическую, либо грамматическую валентности.
В ходе исследования было выявлено, что заполнение грамматических валентностей и наращение семантики характерно для неэталонных интерпретаций независимо от фактора принадлежности респондентов к какой-либо из групп. При этом ключевую роль в запуске этого механизма играет, судя по всему, фактор информационной недостаточности, который, однако, не гарантирует формирования законченного варианта интерпретации. В приведенной выборке содержатся ответы хорошо и мало информированных не-экспертов, которые испытали информационную недостаточность при интерпретации стимула, предприняли попытку установить взаимосвязи компенсаторным способом, но не сумели обнаружить достаточного количества смысловых повторов для построения результирующего концепта (число обнаруженных взаимосвязей в этих случаях не превышает двух, а если уже достигнуто, то семантический повтор обнаруживается вне найденной грамматической взаимосвязи). В нашем примере это может свидетельствовать о том, что неэксперты и эксперты отличаются друг от друга не только наличием / отсутствием специальных знаний, но и опытом выявления взаимосвязей для получения целостного понимания текста. Именно с этим может быть связана высокая степень уверенности в оценке текста экспертами. Механизм компенсации информационной недостаточности может оказаться одной из причин экспертных ошибок наряду с возможностью ошибки подтверждения – разновидности когнитивного искажения, обусловленной преобладанием экспертного опыта в конкретной области [Nickerson, 1998] и/или эффектом прайминга, смоделированного в рамках этого эксперимента.
Представляется, что дальнейшее изучение рассмотренных выше механизмов интерпретации и предполагаемых причин добросовестных экспертных заблуждений может способствовать повышению объективности экспертных оценок и сокращению числа невынужденных ошибок.
Выводы
Список литературы Об экспертной и неэкспертной интерпретации поликодовых текстов
- Анисимова Е. Е., 2003. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация (на материале креолизованных текстов). М. : Academia. 122 с.
- Апресян Ю. Д., 1995. Избранные труды. В 2 т. Т. 1. Лексическая семантика (синонимические средства языка). 2-е изд., испр. и доп. М. : Яз. рус. культуры ; Восточ. лит. VIII, 472 с.
- Ариас А.-М., 2012. Взаимодействие вербального и невербального компонентов в карикатуре и коллаже (на материале немецкоязычных СМИ) : дис. ... канд. филол. наук. СПб. 179 с.
- Болдырев Н. Н., Магировская О. В., 2009. Языковая репрезентация основных уровней познания // Вопросы когнитивной лингвистики. № 2. С. 7-16.
- Вашунина И. В., 2008. Особенности оценки крео-лизованного текста в зависимости от параметров иллюстрации // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. № 4. С. 223-227.
- Ворошилова М. Б., 2013. Политический креолизо-ванный текст: ключи к прочтению. Екатеринбург : Урал. гос. пед ун-т. 194 с.
- Ворошилова М. Б., 2017. Методология, методы и методики анализа креолизованного текста // Эволюция лингвистической экспертизы. Методы и приемы : монография. Екатеринбург : Урал. гос. пед ун-т. С. 125-199.
- Гак В. Г., 1998. Языковые преобразования. М. : Шк. «Яз. рус. культуры». 768 с.
- Горбачева А. В., Варламов А. А., 2018. О гипотетической модели восприятия и понимания поликодовых текстов // Международный аспирантский вестник. Русский язык за рубежом. № 4. С. 66-73.
- Горбачева А. В., Пучкова А. Н., Осадчий М. А., 2018. О принципах понимания и семантических правилах интерпретации знаков в изобразительной части поликодовых текстов // Ученые записки УО «ВГУ им. П.М. Машерова». Т. 27. С. 53-57.
- Ейгер Г. В., Юхт В. Л., 1974. К построению типологии текстов // Лингвистика текста : материалы науч. конф. В 2 ч. Ч. 1. М. С. 103-110.
- Злоказов К. В., 2011. Анализ особенностей восприятия креолизованного текста деструктивно-экстремистской направленности // Политическая лингвистика. Т. 3, № 37. С. 210-216.
- Косериу Э., 1969. Лексические солидарности // Вопросы учебной лексикографии / под ред. П. Н. Денисова, Л. А. Новикова. М. : Изд-во МГУ С. 93-104.
- Кукушкина О. В., Сафонова Ю. А., Секераж Т. Н., 2014. Методика проведения судебной психолого-лингвистической экспертизы материалов по делам, связанным с противодействием экстремизму и терроризму. М. : Изд-во ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России. 98 с.
- Пучкова А. Н., 2018. Шаблоны восприятия цифровых поликодовых текстов экстремистской направленности и перспективы их экспериментального исследования // Международный аспирантский вестник. Русский язык за рубежом. №> 4. С. 74-79.
- Солсо Р., 2006. Когнитивная психология. 6-е изд. СПб. : Питер. 589 с.
- Сонин А. Г., 2006. Моделирование механизмов понимания поликодовых текстов : дис. ... д-ра филол. наук. М. 323 с.
- Baldry A., Thibault P. J., 2006. Multimodal Transcription and Text Analysis: A Multimedia Toolkit and Associated On-line Coursebook. L. ; Oakville : Equinox. 270 p.
- Barsalou L. W., 1992. Frames, Concepts, and Conceptual Fields // Frames, Fields, and Contrasts / ed by A. Lehrer, E. F. Kittay. Hillsdale, New Jersey : Lawrence Erlbaum Associates. P. 21-74.
- Fodor J. A., 1998. Concepts: Where Cognitive Science Went Wrong. Oxford : Oxford University Press. 174 p.
- Halliday M. A. K., 1978. Language As a Social Semiotic: The Social Interpretation of Language and Meaning. Baltimore : University Park Press. 256 p.
- Kress G., Leeuwen T. van, 1996. Reading Images: The Grammar of Visual Design. N. Y. : Routledge. 312 p.
- Kress G., Leeuwen T. van, 2001. Multimodal Discourse: The Modes and Media of Contemporary Communication. L. : Edward Arnold. 152 p.
- Leeuwen T. van, 2005. Introducing Social Semiotics. N. Y. : Psychology Press. 320 p.
- Nickerson R. S., 1998. Confirmation Bias: A Ubiquitous Phenomenon in Many Guises // Review of General Psychology. Vol. 2, iss. 2. P. 175-220. DOI: 10.1037/1089-2680.2.2.175.
- O'Halloran K., 2008. Systemic Functional-Multimodal Discourse Analysis (SF-MDA): Constructing Ideational Meaning Using Language and Visual Imagery // Visual Communication. Vol. 7, iss. 4. P. 443-475. DOI: 10.1177/1470357208096210.
- Pilatova O. I., 2019. Conventional Lexical Means for Representation of Semantics of Concepts (Evidence from Russian Language) // Neurobiology of Speech and Language. Proceedings of the 3 rd International Conference «Neurobiology of Speech and Language». Saint Petersburg : Skifiya-print. P. 51-52.