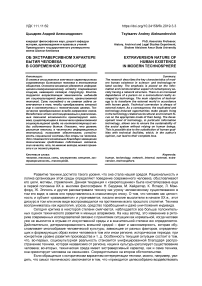Об экстраверсивном характере бытия человека в современной техносреде
Автор: Цыцарев Андрей Александрович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 3, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье описываются ключевые характеристики современного бытования человека в техногенном обществе. Основное внимание уделяется информационно-коммуникационному аспекту современного социума, имеющего сетевую структуру. Констатируется возрастающая зависимость индивида от социокультурной реальности, организованной техникой. Суть последней и ее главная задача заключаются в том, чтобы преобразовать внешний мир в соответствии с человеческими целями. Техническое преобразование всегда направлено вовне. Вследствие этого эксплицированные и реализованные техникой возможности ориентируют человека, существующего в технически организованной социокультурной среде, на соответствующий модус собственного бытия. Показано, что уровень развития техники, в частности информационных технологий, позволяет обеспечивать устойчивость социальной системы без опоры на человека. Это становится возможным благодаря замещению техническими средствами собственно человеческих качеств, что, по мнению автора, может привести к их полной утрате.
Человек, техника, сеть, внутреннее, внешнее, экстраверсивность, техносреда
Короткий адрес: https://sciup.org/149133935
IDR: 149133935 | УДК: 111.11:62 | DOI: 10.24158/fik.2019.3.3
Текст научной статьи Об экстраверсивном характере бытия человека в современной техносреде
Развитие техники достигло такого уровня, что она стала нашей средой. Рациональность и логика организации этой среды определяют поведение современного человека, обусловливают его цели, мотивы, стремления. Данная тенденция к «закрепощению» была констатирована еще в первой половине XX в. многими философами. Н. Бердяев, М. Хайдеггер, К. Ясперс, Л. Мэм-форд, Ж. Эллюль и другие рассматривали технику как угрозу человеческому существованию в том его виде, в каком оно представлялось в классическую эпоху. О том, что человек как целостность и субъект «размывается» и утрачивается, писали многие мыслители в начале XX в., этот дискурс в том или ином виде воспроизводился на протяжении всего прошлого столетия. Техника воспринималась как идеология, угроза, средство порабощения и даже уничтожения индивида.
Сегодня критика в некоторой степени смягчается, наблюдается все больше положительных оценок технического развития и меньше алармизма. На наш взгляд, это изменение в риторике современных исследователей связано с принятием ситуации как нормальной, когда человек уже не мыслится в отрыве от искусственной среды и в значительной степени ею определяется. Действительно, детерминированность внешней средой – факт и закономерность, которая обусловливает многообразие человеческой культуры, зависящее от разных факторов, определяющих и формирующих образ жизни человека в том или ином регионе, историческом периоде, при конкретном уровне развития производства и т. д. Особенность текущей ситуации состоит в том, что, во-первых, социокультурная реальность становится унифицированной благодаря распространению техники, которая независимо от региона, нации и культуры регулирует существование человека; во-вторых, техническая среда имеет экстраверсивный характер, как и сама техника, она ориентирует человека на «внешнее». Сосредоточимся на втором обстоятельстве.
Если обращаться к историческим вариантам интерпретации техники, можно, например, увидеть, что смысл технического заключается в том, что «приходится целесообразно воздействовать наружу» [1, с. 90]. Это, на наш взгляд, следует понимать так, что внешнему миру требуется переформатирование согласно нашим идеям. Человек выступает целеполагающим и активно действующим центром, вокруг которого разрастается технически культивируемый мир, мир человеческого плана. Человек - это носитель идеалов, к воплощению которых он стремится, пытаясь перевести внутреннее во внешнее. Внутреннее и внешнее в данном случае - топологические понятия онтологии, ее регионы. Внутреннее - это не явленное, не эксплицированное, пребывающее в возможности, потенции. Внешнее - то, что выведено «из потаенного» [2], явлено, актуализировано.
Собственно человеческое существование долгое время держалось на допущении иного мира, который выступал гарантом и источником истины, ценностей и норм. В результате такого допущения в человеке формировались способность выдерживать требования долга и необходимость исполнения правил. Нравственное поведение в частности и отношение к миру в целом зависели от умения держать напряжение между двумя мирами, один из которых доступен чувствам, другой - разуму и вере. Человек представлялся местом пересечения этих двух миров. Сейчас доминирует научная онтология, подразумевающая существование только одного мира, одного ареала бытия, «внешнего», материального. Внутреннее теперь - это не другой уровень или сегмент бытия, это тоже внешнее, но не явленное, концептуально не дифференцированное.
В прошлом ценности и идеалы легитимизировались иным, трансцендентным миром (Богом, Абсолютом и т. д.), но их носителем и исполнителем был сам человек. Он выступал инструментом манифестации идеального. Кроме удовлетворения потребности в объяснении окружающего мира, религиозных и мистических потребностей, допущение трансцендентной реальности имело и «практическое» значение, поскольку удерживало «человеческий мир» от распада под влиянием энтропийных сил действительности. В современном техногенном обществе индивид делегировал свои способности по манифестации должного внешней среде и теперь она сама может сохранять постоянство собственного состояния. Эта способность сегодня обеспечена техникой.
В современном информационном обществе, имеющем сетевую структуру, коммуникации и социальные отношения обладают «жестким» материальным носителем, материальным основанием, которым являются информационно-коммуникационные технологии. Структура отношений и коммуникаций изоморфна архитектуре их технического средства. Сеть обеспечивает интеграцию, целостность и устойчивость социальной системы. В несетевом, традиционном, иерархическом обществе должна была кем-то или чем-то выполняться интеграционная функция. Необходимо было реализовывать социальную самореференцию, которая обеспечивала бы целостность и устойчивость (религия, церковь, идеология, руководящая роль партии, традиционные СМИ). Однако в отсутствие материальных оснований для такой степени «информационной свободы», как в сети, нужно контролировать распространение и потребление информации. Поэтому надзор осуществлялся за информацией, ее распространением и содержанием, следовательно - поведением социальных агентов и социальных отношений между ними.
Сегодня эта функция присуща самим средствам сетевой коммуникации как атрибут. Связывая «все со всем», сеть интегрирует части таким образом, что элементы или узлы (участники) могут конструировать для себя картину, соответствующую их ожиданиям и запросам, которая зависит, с одной стороны, от содержания информационного пространства, с другой - от выбора самого пользователя. Как пишет Д. Ланир, «главной ошибкой современной цифровой культуры является то, что она раскалывает сообщество людей настолько мелко, что остаются лишь помехи. Потом вы начинаете заботиться о сетевой абстракции больше, чем о реальных людях, входящих в эту Сеть, несмотря на то, что Сеть сама по себе ничего не значит. Значимыми всегда были лишь люди» [3, с. 30]. С социологической точки зрения это процесс атомизации и дифференциации социальных агентов. В «нормальном» положении они должны быть обеспечены единым видением социальной реальности для того, чтобы успешно и эффективно взаимодействовать в едином социальном пространстве. Однако интеграция обеспечивается самим фактом «физической» включенности в сеть и возможностью получить информацию, построить картину мира, которая удовлетворит отдельно взятого пользователя. Получается, что сеть или сетевое общество функционирует помимо содержания картин мира каждого отдельного ее участника. Парадоксальным образом аномия агентов сети гарантирует ее устойчивость. Сетевые структуры организуются для решения определенных задач, и содержание мышления участников такого взаимодействия не имеет принципиального значения. Макроструктура сети становится определяющей, она оказывается важнее людей.
Человеческие качества, которые традиционно обеспечивали устойчивость социальных отношений (доверие, нравственность, чувство долга и т. д.), сегодня могут быть «заменены» средствами коммуникации, сетью. Иначе говоря, они становятся техническим вопросом. Например, в сети, организованной на основе технологии блокчейн, можно никому не доверять, но истинность и надежность совершаемых операций гарантируются техническими средствами. Третье лицо в качестве гаранта или свидетеля операций не требуется. Юридические заверения, нормы морали или государственное регулирование перестают быть необходимыми, поскольку аппаратно-программная архитектура среды, в которой происходят отношения, не позволит нарушить правило.
Целостность общества и устойчивость социальных отношений теперь зависят не только от способности человека реализовывать должное собственными усилиями. В сети наши социальные отношения могут преобразовываться таким образом, что они становятся жесткими, необратимыми и не подлежащими обсуждению. Для определенных социальных отношений, таких как финансовые операции, этот уровень жесткости может быть полезен, поскольку предотвращает случаи мошенничества, подделки и иного стороннего влияния. Однако в иной ситуации это уменьшает свободу и ответственность людей, взаимодействующих в подобной сети [4]. Также межчеловеческие отношения могут стать слишком «связанными» и технологически зависимыми [5].
Д. Шаум, разработчик одного из основных предшественников биткоина, еще в 1980-х гг. утверждал, что распространение децентрализованных приложений (которые позволяет строить технология блокчейн) может привести к серьезным глобальным изменениям путем решения (этических) проблем массового наблюдения и демократического управления [6]. Не углубляясь в вопрос о том, что в таком случае подконтрольной остается сама технология и, следовательно, контроль осуществляет тот, кто разрабатывает и обеспечивает функционирование технологии, следует отметить, что при таком положении человек оказывается в излишне «благоприятной» среде. От него не будет требоваться обладание нравственными качествами и способностью нести ответственность. Все эти компетенции могут быть переведены во «внешний» регистр. Они оказываются функцией социокультурной реальности, которая теперь гарантирует человеку все то, что раньше он должен был гарантировать сам. Проблема в первую очередь состоит не в материально-техническом благополучии человека, но в угрозе критической этико-антропологической деформации.
Таким образом, испытывая последствия детерминированности современной сетевой средой, человек оказывается в принципиально зависимом и неотделимом от современной техносреды положении. Его способность преодолеть закрепощенность техникой [7] трудно представить, поскольку духовные усилия, на которые он возлагал надежды, возможны только при условии допущения иного, т. е. при трансцендентной перспективе. Однако, когда и человек в своей «субъектности», и все доступное и мыслимое – это наличность, актуализированная техникой, трансцендентная перспектива исчезает и устойчивость человеческого , воспроизводство человеческих состояний становятся проблематичными. Человек не укоренен в себе и через себя не имеет выхода к такой перспективе, она не предполагается, «оттягивается» и ускользает [8]. Следовательно, человек имеет дело только с тем, что явлено технически. Технический объект выступает точкой отсчета для социального, культурного и личностного, экзистенциального бытия. Можно согласиться с тем, что «человеческое существование лишается опоры, локализация в культурном и социальном пространстве превращается в бесцельное "блуждание" – цифровой номадизм» [9, с. 36]. Поскольку современный человек живет в уже «готовом» мире, форматированном им самим под себя самого, то нет насущной необходимости в смысло- и целеполагании, поскольку это не является экзистенциальной проблемой, в том понимании, что от этого более не зависит его физическое существование. Человек теперь – пользователь, встроенный в сетевую социокультурную среду, как ее элемент он «приспособился к собственному расширению самого себя и превратился в закрытую систему» [10, с. 24].
Ссылки:
Список литературы Об экстраверсивном характере бытия человека в современной техносреде
- Энгельмейер П.К. Философия техники. СПб., 2013. 96 с.
- Хайдеггер М. Вопрос о технике // Новая технократическая волна на Западе / отв. ред. П.С. Гуревич. М., 1986. С. 45-67.
- Ланир Д. Вы не гаджет: манифест. М., 2011. 318 с.
- Reijers W., Coeckelbergh M. The Blockchain as a Narrative Technology: Investigating the Social Ontology and Normative Configurations of Cryptocurrencies // Philosophy & Technology. 2018. Vol. 31, iss. 1. P. 103-130. -x. DOI: 10.1007/s13347-016-0239
- Hodder I. The Entanglements of Humans and Things: A Long-Term View // New Literary History. 2014. Vol. 45, no. 1. P. 19-36.
- Chaum D. Security without Identification: Transaction Systems to Make Big Brother Obsolete [Электронный ресурс] // Communications of the ACM. 1985. Vol. 28, no. 10. P. 1030-1044. URL: https://www.cs.ru.nl/~jhh/pub/secsem/chaum1985bigbrother.pdf (дата обращения: 04.03.2019).
- Бердяев Н.А. Человек и машина (проблема социологии и метафизики техники) // Путь. 1933. № 38. С. 3-38.
- Хайдеггер М. Что зовется мышлением? М., 2006. 315 с.
- Ополев П.В. Влияние простых технических объектов и сложных информационных систем на размерность человека // Интеллект. Инновации. Инвестиции. 2017. № 2. С. 34-37.
- Маклюэн Г.M. Понимание Медиа: Внешние расширения человека / пер. с англ. В. Николаева. М.; Жуковский, 2003. 464 с.