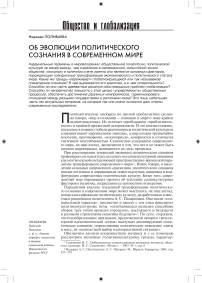Об эволюции политического сознания в современном мире
Автор: Поливаева Надежда Павловна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Общество и глобализация
Статья в выпуске: 6, 2008 года.
Бесплатный доступ
Кардинальные перемены в мировоззрении, общественной психологии, политической культуре не менее важны, чем изменения в материальной, событийной жизни общества, поскольку в конечном счете именно они являются основным фактором, порождающим грандиозные трансформации экономического и политического статуса мира. Какие же тренды «переживает» глобализирующееся или так называемое планетарное сознание? В чем выражается его единство, а в чем гетерогенность? Способно ли оно найти адекватные решения обостряющихся проблем глобализации? Способно ли человечество повысить с этой целью «управляемость» общественных процессов, обеспечить достижение разумных компромиссов, гармонизировать отношения между разными государствами и регионами мира? Это лишь небольшая часть тех актуальных вопросов, на которые так или иначе пытаются дать ответы современные исследователи.
Короткий адрес: https://sciup.org/170169239
IDR: 170169239
Текст научной статьи Об эволюции политического сознания в современном мире
об эволюции политичеСкого СоЗнания в Современном мире
Кардинальные перемены в мировоззрении, общественной психологии, политической культуре не менее важны, чем изменения в материальной, событийной жизни общества, поскольку в конечном счете именно они являются основным фактором, порождающим грандиозные трансформации экономического и политического статуса мира. Какие же тренды «переживает» глобализирующееся или так называемое планетарное сознание? В чем выражается его единство, а в чем гетерогенность? Способно ли оно найти адекватные решения обостряющихся проблем глобализации? Способно ли человечество повысить с этой целью «управляемость» общественных процессов, обеспечить достижение разумных компромиссов, гармонизировать отношения между разными государствами и регионами мира? Это лишь небольшая часть тех актуальных вопросов, на которые так или иначе пытаются дать ответы современные исследователи.
п олитологические дискурсы по данной проблематике (условно говоря, «мир в сознании – сознание в мире») пока крайне немногочисленны. Их отличает преобладание «приблизительности» и крайней прогнозной осторожности. И это вполне понятно, поскольку в теориях глобализации вопросы политической культуры и сознания имеют маргинальное значение, а мир сегодня чрезвычайно многолик, противоречив, «многоярусен», конфликтен и отличается системной неустойчивостью. Сущностное содержание современного мира, на наш взгляд, заключается в том, что нет и не может быть единого миропорядка, нанизанного на «ось» прогресса.
При рассмотрении тенденций эволюции политического сознания правомерно, на наш взгляд, исходить «из социокультурной динамики как неотъемлемой составляющей пространственно-временной парадигмы трансформации современного мира»1. Иначе говоря, в выделении основных направлений «движения» политического сознания вполне логичным и оправданным может выступать динамика и конфигурация современных политических культур. Б-олее того, современный мир оправдывает прогноз об усилении социокультурных факторов в политике, возрастании ее ценностного измерения.
ПОЛИВАЕВА Надежда
Павловна – к. ф. н., доцент кафедры социологии и теории социальной работы Воронежского филиала РГСу
Парадигмой анализа тенденций трансформации политического сознания в современном мире может выступать, на наш взгляд, новая классификация политических культур, разработанная известным российским политологом А-. С. Панариным. Она носит «темпоральный характер», предметно и вместе с тем емко фиксирует политикокультурные типы, «отличающиеся разными способами сборок трех типов времени (прошлого, настоящего и будущего) и разными стратегиями освоения будущего»2. По сути, стержнем, системообразующим признаком предложенной автором трехсекторной идеалтипической «сетки» выступает доминирующее политическое сознание, определяющее политическое поведение элиты и масс, их «ценностный выбор в альтернативной ситуации».
Обозначим данную координатную матрицу и с ее помощью рассмотрим типичные политикокультурные тренды, характер- ные для современной эпохи. Первый тип «глобальной» политической культуры – экономикоцентризм. В его рамках проект глобализации «обещает миру неслыханную поляризацию нового типа: меньшинство призвано войти в сверхсовременный мир, сочетающий предельную планетарную мобильность с технически обеспеченным комфортом; большинство – вернуться в запредельную архаику, сочетающую изолированность и неподвижность с отсутствием каких бы то ни было гарантий нормального существова-ния»1. Носителями и последовательными сторонниками данного типа культуры выступают прежде всего современные проповедники глобализма (например, Ж. А-ттали, З. Б-жезинский). Они жестко стоят на страже интересов «золотого миллиарда», отстаивая право обитателей мировых столиц бесконтрольно потреблять ресурсы периферии, т.е. фактически выступать в роли хозяев Земли. В одной из работ А-. Неклессы приводится резкое высказывание З. Б-жезинского о формировании «все более контролируемого и направляемого общества, в котором будет господствовать элита… Освобожденная от сдерживающего влияния традиционных либеральных ценностей, эта элита не будет колебаться при достижении своих политических целей, применяя новейшие достижения современных технологий для воздействия на поведение общества и удержания его под строгим надзором и контролем»2. Р-азвитие подобного рода политических взглядов и устремлений способно сформировать экономизированное сверхобщество, базирующееся на доминировании принципа экономической выгоды. На практике это будет означать крах идеалов западнохристианской цивилизации и образование сословного, многоярусного, неоязыческого универсума – «Ч-етвертого Р-има».
Второй тип – этноцентристская политическая культура. Мотивирующей ценностью здесь является не столько развитость или проекты будущего, сколько этническая «самостийность». А-вангардные функции по отношению к реальным или потенциальным носителям данного политикокультурного «комплекса» выполняют политизированные лидеры. Они акцентируют внимание на проблемах чистоты национального языка, поруганных святынь и ценностей, заново востребованных национальных ритуалов и традиций. Их цели заключаются в том, чтобы смоделировать «большое общество» по модели «общности». Последняя, в отличие от общества, обычно отгораживается от современного конкурентного мира разного рода протекционистскими барьерами или, что происходит гораздо чаще, ищет защитников и покровителей.
Сегодня это ярко проявляется в отношениях молодых этнократий, образовавшихся на постсоветском пространстве, со своими более мощными соседями из дальнего зарубежья. Одни из них выбирают Запад, главным образом А-мерику или Германию, другие – Восток, в частности, Турцию, Саудовскую А-равию или Иран.
В глобализирующемся сознании культурно-политический ландшафт современности «маркирует» сферу национальноэтнического сейсмически опасной зоной. В неясных пока очертаниях всемирного этнического процесса за пестротой фактов и разноречием мнений экспертов все же можно выделить две достаточно устойчивые и взаимоисключающие тенденции как самого этого процесса, так и его отражения в политическом сознании элит и масс. Одна ведет к регионализации и суверенизации все более мелких этнических единиц. Другая, напротив, устремлена к мультикультурности (сосуществованию в рамках одного общества нескольких культурных сообществ) в процессе глобализации экономики, политики, культуры, объединению в национальные союзы целых констелляций государств.
Все более активную роль на континенте играет сепаратистское политическое сознание, борьба за автономию – басков и каталонцев в Испании, валлонов в Б-ельгии, ирландцев и шотландцев в Великобритании, не говоря уже о раздираемой этническими конфликтами бывшей Югославии. Можно предположить, что именно трансрегионализация мировых процессов, ослабляющая действенность национального суверенитета, парадоксальным образом подогревает борьбу за суверенизацию малых этносов, вспышки этнического экстремизма и фундаментализма. Иначе говоря, активизацию национализма и религиозного фундаментализма в условиях глобализации можно объяснить размыванием национально-государственной идентичности и деформациями в сфере культуры. А-кцентируя национальные чувства и/или религиозные ценности, люди пытаются продемонстрировать целостность своего сознания и поведения, отторжение «чуждых» влияний, прочность связей с традиционной общностью1.
Сфера выражения этноцентристской политической культуры чрезвычайно широка. Она, как правило, культивируется политиками, государственными деятелями, лидерами националистических образований. Р-ечь может идти об определении «культурного акцента» в системе образования, при проведении праздников, установке памятников, учреждении эмблем и т.д. Всякий раз, когда государственный деятель (претендент на государственный пост и т.п.) выступает с публичным заявлением или выражает поддержку тому или иному событию общественной жизни, он влияет на восприятие обществом своей идентичности. Это весьма тонкая и деликатная сфера, поскольку у групп, чье мнение не было учтено, как правило, возникают и постоянно растут чувства отчужденности и враждебности. Следовательно, приверженцы этнократической нормативно-ценностной системы способствуют росту межэтнических разногласий и чрезвычайно усложняют обеспечение национального (государственного) единства.
Заметим здесь также, что повышение роли этнополитического сознания актуализирует соотношение этнокультурного компонента интереса нации с ее общегражданским компонентом. Об этом свидетельствуют многочисленные дискуссии на тему «гражданское или этническое/ лингвистическое сообщество». Ч-то касается современной Р-оссии, то, как полагают некоторые отечественные исследователи, общая динамика политизации этничности (следовательно, этнополитического сознания) свидетельствует о постепенном переходе к «постнационализму». В его рамках «фокус национального развития в классическом понимании этого слова смещается к взаимодействиям более крупного или более мелкого масштаба, чем нация, организованная посредством государственных институтов»2.
Итак, первый тип политической культуры в глобализирующемся мире – это «сверхсовременность», а второй – архаика. Выступая за новейшее воплощение современности, глобалисты на деле, желая того или нет, как отмечает А-.С. Панарин, стимулируют локализм и реванш религиозно-племенного «обособленного» сознания. Поэтому политическая культура экономико-центристского толка, по сути, направлена против современности.
Третий тип политической культуры – социоцентрический (или постэкономический) – «снимает» крайности первых двух типов политического сознания и политического поведения в современном мире. Он «требует» от экономики помнить о своих культурных предпосылках и не разрушать их; от культуры – помнить о приоритетах развития и не жертвовать ими ради преемственности и «монолитности», когда «культура является узницей общественного контроля». Приверженцы социоцентрической «системы ценностей» устремлены к тому, чтобы общественные связи носили не племенной, сугубо этно-религиозный, а социальный характер, но при этом отнюдь не были бы нейтральными в ценностном и нравственном отношениях.
Политическая культура социоцентризма зарождается в логике драматического диалога и борьбы разнородных сил современного мира, мобилизуется в ответ на становящиеся все более откровенными вызовы гуманизму. Она находит свое яркое выражение в выступлениях противников глобализма. Вместе с тем политическое сознание «антиглобалистов», имея некую общую направленность – созидание новых форм интернационализации, противоположных глобализму, представляет собой многоликое образование, отражающее так или иначе разнообразную проблематику существования и развития современной цивилизации. Иначе говоря, «иноглобализм» или «аль-терглобализм» неоднороден, как и всякое широкое массовое действие, особенно на первоначальном этапе. Е-го образуют самые разные элементы – от «левых» до «правых», от «революционеров» до «реформаторов».
Общественно-политические идеи и представления первых, прежде всего наиболее радикальных, сторонников «нового пролетариата» характеризуются приверженностью экстремистским методам борьбы с господством транснационального капитала. Глобализация интересует их исключительно как генератор массового протеста, как источник формирования нового «резерва» революционных сил1. Ни о какой гармонизации общественных отношений вопрос не ставится. В ряды Движения А-льтерглобалистов (ДА-Г) проникают и носители расово-национальных и/или религиозно-сектантских идей и установок. Поэтому для активистов ДА-Г актуальной задачей является вытеснение из своих рядов приверженцев ксенофобии, человеконенавистнических идей и архаизирующих установок.
Сторонники «реформистского» подхода привержены комплексу ценностей, где центральное место принадлежит демократии и социальной справедливости. Они осуществляют поиск реальных партнеров с целью «рационально-прагматического» решения конкретных проблем глобализации. Одной из таких конкретных и вместе с тем ключевых проблем, по мнению «реформаторов», является организация демократического контроля за главными субъектами глобализации. Однако такой контроль не может быть действенным без ресурсов влияния и власти, как минимум сопоставимых с совокупной мощью транснационального капитала.
По мнению многих авторов, модернизация и глобализация явно или латентно способствуют процессам демократизации, в том числе и политических представлений, ориентаций и ценностей. Б-олее того, демократический транзит продолжает оставаться доминирующей тенденцией в мировом общественном развитии. В теории под модернизацией понимается совокупность процессов индустриализации, бюрократизации, секуляризации, урбанизации, становления системы всеобщего образования, представительной политической власти, ускорения пространственной и социальной мобильности и др., которые ведут к формированию «современного открытого общества» в противоположность «традиционному закрытому». Заметим здесь, что С. Хантингтон трактует политическую модернизацию как «демократизацию политических институтов общества и его политического сознания»2. Ярче всего, по-видимому, это находит свое выражение в становлении социоцентрической политической культуры, в расширении и активизации движения альтерглобалистов. Но в одних случаях экономический рост в условиях глобализации в самом деле «работает» на демократические реформы (как это было в Южной Корее или на Тайване), в других он лишь укрепляет легитимность авторитарных режимов (как в Сингапуре или в Саудовской А-равии). Иными словами, причинноследственная связь между глобализацией и демократизацией (соответственно, глобализирующимся сознанием и его демократическим сегментом) как минимум не пропорциональна.
С одной стороны, имеются признаки того, что в современном мире постепенно расширяется пространство свободы и демократии, но с другой – наряду с этим в последние несколько десятилетий явно обнаружились процессы кризиса демократии, точнее, традиционной для Запада демократической системы власти и самоуправления. Б-езусловно, именно эта система выступила в качестве культурной основы и идеологического стимула глобализации. Однако по мере перекраивания геополитической и экономической карты мира действенность таких аспектов демократии, как контроль над политической властью и принятием решений, публичная ответственность властей предержащих и даже выборы (о чем свидетельствует, в частности, факт появления непонятно кем выбранных или назначенных чиновников, управляющих сегодня объединенной Е-вропой), явно ослабевает.
Кризис западной демократии усугубляется накапливающимся в ней протестным потенциалом, который также как и во многих других странах мира стимулирован глобализацией. Формы массового протеста здесь обычно реализуются на электоральном уровне – через отказ в доверии политическим силам, всецело ориентированным на глобализационные процессы и забывающим о национальных, государственных интересах. Р-астет сопротивление чересчур активному стимулированию интеграционных усилий, в том числе расширению компетенций наднациональных институтов. В ряде случаев такое сопротивление необоснованно и даже неразумно. Но оно сигнализирует о крайней болезненности издержек нынешней модели глобализации. Вместе с тем многие западные исследователи, ссылаясь на данные социологических опросов, проводившихся в США-и странах Западной Е-вропы, считают возможным утверждать, что вера в демократические ценности сохранилась1.
Массовая апатия и враждебность, а также разочарование в демократии фактически повсеместно обнаруживаются не только в «старых демократиях», но также в странах Центральной, Восточной Е-вропы и бывшего Советского Союза (ЦВЕ- и Б-СС). С другой стороны, опросы общественного мнения, проводившиеся в процессе транзита и после его завершения, свидетельствуют, скорее, о наличии «циничной политической культуры», что, однако, отнюдь не обязательно чревато смертельной угрозой для демократии2. Иначе говоря, разочарования не фатальны, они связаны не столько с отрицанием самого демократического идеала, сколько с реальной практикой его реализации в своих странах.
В наиболее развитых странах мира демократическая утопия стала реальностью, которая по природе своей не может спровоцировать «столкновение цивилизаций». Иначе говоря, демократическая культура ставит демократические цели и соответствующие средства их достижения. Но демократическая культура включает в себя элементы, которые в любой момент могут быть направлены против самой демократии.
Таким образом, предложенная А-.С. Панариным классификация современных политических культур, в общем, позволяет определить ключевые, базо- вые тенденции политических установок, ценностных ориентаций современного человечества. Хотя типы политической культуры имеют свою специфику в разных регионах планеты, в целом все же не столько исторический и географический факторы, сколько логика современного политического бытия и глобальных вызовов определяет распространенность этих типов и характер их взаимоотношений. Состояние современного разнородного, разнонаправленного, крайне противоречивого мира проявляется в рассмотренных политических культурах и, наоборот, последние так или иначе воспроизводят долгосрочные, масштабные общественно-политические мегатренды.
Социоцентрический тип политической культуры созвучен гуманистическому вектору трансформации политических ценностей человечества. Наряду с этим экономикоцентризм и этнократизм могут быть объединены в «общую» недемократическую тенденцию трансформации политического сознания. Иначе говоря, преобладающими тенденциями эволюции политического сознания в современном мире выступают два ее взаимоисключающих (и вместе с тем взаимовлияющих) вектора – демократический (интегрирующий мир на соответствующих принципах и ценностях) и недемократический (дезинтегрирующий). Соотношение и взаимосвязь этих траекторий в значительной, если не решающей, степени предопределяют социально-политический контекст мирового развития.
Усиление интегрированности регионов, стран и мира в целом, при сохранении имманентной их гетерогенности сопровождается возникновением новых проблем и противоречий, равно как и возможностей, рождением новых идей, подходов, взглядов. Поэтому политическое сознание, как и сам современный мир, вариабельны. Вероятны, по-видимому, два варианта: нивелирующая (унифицирующая развитие макрорегио-нальных и локальных цивилизаций) глобализация и глобализация, построенная на принципах равноразличий всех ее участников. Р-езонно предположить, что политическое сознание как элит, так и масс будет иметь несколько точек роста и изменяться одновременно в нескольких направлениях, в том числе взаимоисключающих.