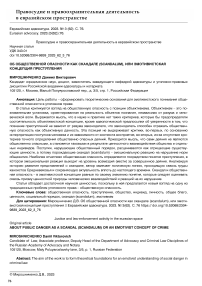Об общественной опасности как скандале (scandalum), или эмотивистская концепция преступления
Автор: Мирошниченко Даниил Викторович
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Правосудие и правоохранительная деятельность в Евразийском пространстве
Статья в выпуске: 3 (62), 2023 года.
Бесплатный доступ
Цель работы - сформировать теоретические основания для эмотивистского понимания общественной опасности в уголовном праве. В статье критикуется взгляд на общественную опасность с позиции объективизма. Объективизм - это познавательная установка, ориентированная на реальность объектов познания, независимо от разума и человеческой воли. Выражается мысль, что в науке и практике нет таких критериев, которые бы предопределяли состоятельность объективистской концепции, кроме идеологической предпосылки об уверенности в том, что познание преступлений не зависит от разума законодателя, что законодатель способен отражать общественную опасность как объективную данность. Эта позиция не выдерживает критики, во-первых, по основанию интерпретации поступков человека и их зависимости от контекста восприятия, во-вторых, из-за отсутствия критериев точного определения общественно опасных деяний. Приводится мысль, что сами деяния не являются общественно опасными, а становятся таковыми в результате ценностного взаимодействия общества и отдельных индивидов. Поступки, нарушающие общественный порядок, расцениваются как отрицающие существующие ценности, а потому порождающие скандал (scandalum) - эмоциональную реакцию на нарушение норм общежития. Наиболее отчетливо общественная опасность определяется посредством понятия преступления, в котором эмоциональная реакция выходит на уровень возмездия (мести) за совершенное деяние. Анализируя историю развития представлений о скандале, автор замечает логическую линию, проходящую сквозь труды каноистов Средневековья и сохраняющую актуальность вплоть до настоящего времени. Скандал и общественная опасность - в эмотивистской концепции равные по своему значению понятия, которые следует оценивать сквозь призму ценностной природы человеческих взаимодействий и реакций на их нарушение. Статья обладает достаточной научной ценностью, поскольку в ней предлагается новый взгляд на одну из традиционных проблем уголовного права - общественную опасность.
Общественная опасность, преступление, общество, индивид, личность, общее благо, ценности, социальный порядок, скандал (scandalum), эмотивизм
Короткий адрес: https://sciup.org/140298616
IDR: 140298616 | УДК: 343.01 | DOI: 10.52068/2304-9839_2023_62_3_76
Текст научной статьи Об общественной опасности как скандале (scandalum), или эмотивистская концепция преступления
Justice and law-enforcement activity in the eurasian space
Original article
ABOUT PUBLIC DANGER AS A SCANDAL (SCANDALUM) OR AN EMOTIVIST CONCEPT OF CRIME
MIROSHNICHENKO Daniil Viktorovich
Candidate of Law, Associate professor, Deputy Head of the Department of Advocacy and Criminal Law Disciplines of the Russian Academy of Advocacy and Notary
105120, Moscow, Maly Poluyaroslavsky lane, 3/5, p. 1, Russian Federation
Одно из значительных затруднений в науке уголовного права продолжает вызывать категория общественной опасности, ее природа. Являясь признаком преступления, эта категория оказывает большое влияние на дифференциацию и индивидуализацию уголовной ответственности, уголовную политику государства. Но вместе с тем при определении ее в качестве онтологической (бытийственной) категории для понятия преступления возникает вопрос о ее уяснении: что представляет собой общественная опасность? В рамках объективистской концепции, следующей из марксистско-ленинского учения, общественная опасность представляет собой объективно существующее и познаваемое разумом свойство деяний быть вредоносными для данной системы общественных отношений [7]. Объективизм рассматривает это свойство (общественную опасность) как поддающееся принципиальному познанию. Любой акт познания определяется по меньшей мере двумя характеристиками: это объект и субъект познания. Считается очевидным, что объектом познания являются поступки, ведь именно они становятся предметом описания в уголовно-правовых нормах, а субъекты – это те лица, в полномочия которых входит принятие уголовных законов. Именно на них возложена задача обеспечивать социальный порядок, в том числе и уголовно-правовыми средствами. Однако проблема состоит в том, что в действительности поступки не могут обладать общественной опасностью как свойством, точно так же как любые вещи реальной действительности не обладают сами по себе характеристиками красоты, добра или зла. Все эти характеристики носят социеталь-ный характер, они как бы «наслаиваются на действительность», позволяя индивидам эту действительность осваивать, подчинять их разуму. Осознать это просто, если вспомнить, что убийство не всегда общественно опасно: например, во время военных действий или смертной казни оно не рассматривается как общественно опасное. Эти действия, по сути являясь умышленным причинением смерти другому человеку, не опасны не потому, что их природа другая, а потому, что одно и то же действие воспринимается в различных контекстах действительности, а потому и с разной общественной реакцией. Убийство на войне врага не равнозначно убийству в мирной жизни. Отсюда следует вопрос: что объективирует общественную опасность деяний? С этим вопросом связан еще один: если общественная опасность объективна, значит есть объективный критерий (мерило), в соответствии с которым можно с точностью определять, что то или иное деяние общественно опасно, другое – не опасно, а третье, например, является административным проступком или гражданским деликтом.
Во-первых, не существует какого-либо точного критерия определения общественной опасности, поскольку в целом преступность исторически изменчива и зависит от социокультурной и экономической обусловленности. Поэтому то или иное деяние не может обладать строгой референцией общественной опасности, когда в подчинении контексту воспринятия оно таковым (опасным) перестает быть. Во-вторых, отсутствует необходимый критерий определения общественной опас- ности в той или иной форме деяния (нельзя в точности сказать, почему это деяние обладает опасностью, а то, тоже противоправное, не обладает или, если и обладает, то в минимальной степени). Последний тезис усложняется, например, административной преюдицией [6].
При всей проблематичности категории «общественная опасность» в науке она продолжает оставаться объективной категорией, хотя очевидно, что она оценочная и интерпретируемая. Условия восприятия ее действительности в науке чаще связывают с правосознанием, понятие которого не вносит ясности в вопрос об эмпирическом свойстве общественной опасности деяний. Как писал В.Е. Жеребкин, правосознание – это внелогическое и иррациональное понятие, с помощью которого «общественно опасные деяния» можно искусственно выделить из массы других социальных действий, поскольку других логических критериев для этого нет [5]. Правосознанием можно объяснить любой акт криминализации, а вопрос о действительности (истинности) в этом случае становится неактуальным или отходит на второй план. Идеологически, например, концепт «правосознания» становится очень удобным для объяснения позиции по вопросу криминализации, если она находит поддержку в обществе. Общество соглашается, исходя из призмы ценностей, с тем, что данное деяние заслуживает уголовного преследования.
Здесь высвечивается еще один вопрос – о социальной реакции на акт криминализации или совершенного преступления. Если обратить внимание на свойство акта, который вызывает в нас (людях) чувство горести, радости, обиды и т. п., то окажется, что не само действие вызывает такого рода реакцию, а действие со стороны конкретного субъекта (лица), который своим поведением нарушает сложившийся социальный порядок, основанный на определенных ценностях. Если реакции нет, нет того, кто возмущает спокойствие своим актом действия (бездействия), значит либо нет общественной опасности и деяние не рассматривается как преступление, либо нет того, кто заслуживает в связи со своим действием возмездия (мести). В первом случае вред может быть причинен в результате стихийного бедствия (могут погибнуть люди); во втором случае вред причиняется, например, наказанием за преступление. Негативная общественная реакция на деяние появляется как реакция на несправедливость, некое зло, которое облечено в нормативную форму запрета и наказания в случае его нарушения. Стало быть, деяние не может быть общественно опас- ным без общественной реакции, которая является естественным отражением чувства опасности и негодования по поводу произошедшего деяния.
Для подтверждения гипотезы об эмотивист-ской природе общественной опасности обратимся к истории, в первую очередь к трудам канонистов Средних веков. Именно в их работах впервые была выражена идея о необходимой связи между тяжестью греха и общественной реакцией на него. Так, П. Абеляр в своей «Этике» выделил ряд существенных отличительных признаков преступного греха. Во-первых, преступным может быть только тяжкий грех, исходным основанием для определения которого являются смертные грехи (ведущие к духовной смерти); мелкие грехи не являются преступлениями на церковном суде. Во-вторых, грех должен быть проявлен в деянии (греховный помыслы подсудны лишь «небесному форуму»). В-третьих, поступок должен вызывать скандал ( scandalum ) – резко отрицательную моральную реакцию церкви ( ecclesia scandalized ). Любой поступок может причинить вред, но именно тот заслуживает уголовного наказания на церковном суде и называется преступлением, который вызывает раздражение и возмущение церкви (резонанс). И даже будучи тяжким грехом по своей сути, поступок, когда он не вызывает такого рода реакции, не может быть признан преступным (например, если алчность – смертный грех, то алчность, заслуживающая уголовного преследования, должна быть эксклюзивной и устанавливаемой в каждом конкретном случае). Полагаем, прав Г. Берман, когда, проводя аналогию между scandalum и общественной опасностью – свойством деяния причинять вред общественным отношениям, приходит к выводу об аналогичности их содержания [2].
Абеляр пишет, что грех есть оскорбление и презрение Бога; «грешить – значит презирать Творца, то есть не совершать ради него того, что, мы верим, нам надлежит делать ради Него…» [1]. В этой цитате Абеляр использует для обозначения оскорбления термин offince , который равнозначен термину iniuria по своему значению: оба переводятся с латинского языка как «правонарушение», «обида», «оскорбление».
Оскорбление Бога возмутительно и крайне аморально, независимо от того, кто его причиняет (перед Богом все равны). Посредством греха виновный вызывает на себя не только гнев божий, но также общественный гнев и осуждение. Поэтому чем выше негативная реакция общества на поступок, тем опаснее содеянное и суровее должно быть наказание. Концепция греховности престу- пления ровно распределяет в обществе степень возмущения, источник которого зависит не столько от отдельного социального кластера (семьи, монастыря, полиса и пр.), а от всего общества, исповедующего христианскую религию. Оскорбление Бога напрямую является оскорблением каждого христианина, который требует у Церкви и государства наказать обидчика.
Скандал ( scandalum ) - это закономерное следствие концепции интенциональности (несуб-станциальности) греха. В буквальном переводе с древнегреческого (σκάνδαλον) [3] и латинского ( scandalum ) [4] это понятие означает «вводить в соблазн (дурным примером), возмущение, оскорбление, моральное падение». Одновременно это же понятие (будем далее в общем виде называть его scandalum ) используется для обозначения предмета возмущения или оскорбления. Таким образом, термин scandalum затрагивает сразу два аспекта деяния – его внутреннюю (духовную) и внешнюю (социальную) порочность и упречность: лицо соблазняется, грешит, чем оскорбляет Бога, отступая от истины, возмущает общество, поскольку распространение греха грозит всеобщим духовным распадом. Буквально так следует понимать смысл scandalum .
Реакция на нарушение, общественное осуждение – это социальная преграда греху, уровень возмущения от которого равноценен справедливому наказанию за содеянное. При этом вовсе не материальный вред имеет значение, и это был принципиальный поворот в сторону нравственного восприятия субъекта деяния, который произошел в средневековой схоластике. Поступки – это только одухотворенные продукты человеческого разума, сами по себе ничего не значащие. Значимость грех (как и преступление) приобретает только в интенции (намерении, вине), поступки ее лишь обнаруживают. В таком случае возникает вопрос о качестве самих поступков, в которых проявляется зло: как понять, что палач, казнивший преступника, не совершает грех? Единственным критерием служит общественная польза (общее благо). Правительство должно каждый раз решать путем позитивно-правовых установлений, дозволять и запрещать поведение, которое в тот или иной момент времени должно быть дозволенным или запрещенным. Если деятельность палача легальна, он уполномочен убивать виновных, согласно приговору и процедуре его исполнения, значит, никакого греха в казни нет. Общее благо заключается в соблюдении божественного закона, которому должны подчиняться все (в том числе и правители). Такое подчинение придает власти и разнообразным механизмам ее реализации легитимность и находит поддержку Церкви и всего общества.
Таким образом, причинить вред обществу (общему благу) означает не просто уничтожение чего-либо материального: это обстоятельство вторично (как объективная сторона поступка), первична же сама внутренняя (духовная) природа этого поступка. Деяние есть только тогда правонарушение, когда в нем обнаружена вина (намерение): в вине заключается оскорбление Бога ( iniuria ). Для общества вред заключается в опасности повторения и дурном примере для других. Другими словами, опасность состоит в распространении зла, что вызывает внешнюю эмоциональную общественную реакцию ( scandalum ), посредством которой деяние приобретает негативную оценку. Следовательно, наказание приобретает смысл не только возмездия, но и средства для предотвращения вреда и исправления виновного.
Но вред не может существовать просто так, не будучи выраженным. Должна быть общая воля или желание того, чтобы это деяние было под запретом. Оно должно обладать моральной предосудительностью. Эта предосудительность ( iniuria ) проявляется в оскорблении Бога, общества, суверена - всего, кто (что) берется за основу формирования авторитета власти. Без понимания того, что есть морально недопустимое, никакое деяние не может быть осознано в качестве греховного или преступного, поскольку не может быть сформировано понятие субъективного вреда (сознания, виновно оскорбляющего социальные ценности). Поэтому скандал остается эмоциональной (психологической) формой выражения негодующего общественного сознания по поводу деяния, ведь именно общество остается основой человеческого существования.
Рассмотрение общественной опасности через эмотивизм решает проблему объективизма общественной опасности, когда ее следует строго усматривать как некую вещь в социальной жизни (социальный факт). Категория скандала (scandalum) весьма продуктивна для этой цели. Общественная опасность возникает из взаимодействия личности и общества, когда лицо, вопреки социальным ожиданиям, совершая деяние, нарушает ценностные представления и нормы поведения, тогда это вызывает общественную реакцию в виде возмущения, передающегося от одного индивида на все общество (на каждого, кто видит социальную ценность как свою собственную). В зависимости от ценностной картины действительности обще- ственная опасность остается интерпретируемой категорией, связанной с общими представлениями об общественных ценностях, обеспечивающих социальное общение и общее благо.
Список литературы Об общественной опасности как скандале (scandalum), или эмотивистская концепция преступления
- Абеляр П. Тео-логические трактаты / пер. с лат., вступ. ст., сост. С.С. Неретинской. М., 1995.
- Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования: пер. с англ. 2-е изд. М., 1998.
- Дворецкий И.Х. Древнегреческо-русский словарь. Т. II. M-Ω. М., 1958.
- Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. Около 50000 слов. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1976.
- Жеребкин В.Е. Логический анализ понятий права. Киев, 1976.
- Мирошниченко Д.В. Преюдиция в уголовном праве: теоретико-прикладное исследование. М., 2022.
- Пионтковский А.А. Курс советского уголовного права: в 6 т. Т. 2. Общая часть. Преступление. М., 1970.