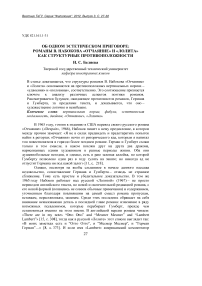Об одном эстетическом приговоре: романы В. Набокова «Отчаяние» и «Лолита» как структурные противоположности
Автор: Беляева Ирина Сергеевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье доказывается, что структуры романов В. Набокова «Отчаяние» и «Лолита» основываются на противоположных вертикальных нормах – «удвоения» и «половины», соответственно. Это соотношение признается ключом к анализу различных аспектов поэтики романов. Рассматривается будущее, ожидающее протагонистов романов, Германа и Гумберта, за пределами текста, и доказывается, что оно – художественно логично и неизбежно.
Вертикальная норма, фабула, эстетическая модальность, двойник, "отчаяние", "лолита"
Короткий адрес: https://sciup.org/146121013
IDR: 146121013 | УДК: 821.161.1-31
Текст научной статьи Об одном эстетическом приговоре: романы В. Набокова «Отчаяние» и «Лолита» как структурные противоположности
В статье доказывается, что структуры романов В. Набокова «Отчаяние» и «Лолита» основываются на противоположных вертикальных нормах – «удвоения» и «половины», соответственно. Это соотношение признается ключом к анализу различных аспектов поэтики романов. Рассматривается будущее, ожидающее протагонистов романов, Германа и Гумберта, за пределами текста, и доказывается, что оно – художественно логично и неизбежно.
Ключевые слова: вертикальная норма, фабула, эстетическая модальность, двойник, «Отчаяние», «Лолита».
В 1965 году, готовя к изданию в США перевод своего русского романа «Отчаяние» («Despair», 1966), Набоков пишет к нему предисловие, в котором между прочим замечает: «Я не в силах предвидеть и предотвратить попыток найти в ретортах «Отчаяния» нечто от риторического яда, которым я напитал тон повествователя в гораздо более позднем романе. Герман и Гумберт схожи только в том смысле, в каком похожи друг на друга два дракона, нарисованных одним художником в разные периоды жизни. Оба они душевнобольные негодяи, и однако, есть в раю зеленая аллейка, по которой Гумберту позволено один раз в году гулять на закате; но никогда ад не отпустит Германа ни под какой залог» [11, с. 218].
Однако, несмотря на якобы слышимое в начале данного пассажа недовольство, сопоставление Германа и Гумберта – отнюдь не странное сближение. Тому есть простое и убедительное доказательство. В том же 1965 году Набоков работает над русской «Лолитой» (1967) – не просто переводом английского текста, но новой и окончательной редакцией романа, с его новой формой (появились не совсем обычные примечания) и содержанием, уточненным благодаря повлиявшим на самый смысл романа пропускам, вставкам, перестановкам, заменам. Среди этих последних обращает на себя внимание немаловажная деталь в последней главе романа: изменение в ряду возможных псевдонимов, которые перебирает Гумберт, прежде чем остановиться именно на этом имени. В английской версии романа читаем: «There are in my notes “Otto Otto” and “Mesmer Mesmer” and “Lambert Lambert”» [15, c. 308], тогда как в русской «Лолите» этот список выглядит так: «В моих заметках есть и “Отто Отто”, и “Месмер Месмер”, и “Герман Герман”…» [8, с. 373]. И если имя «Lambert» американский комментатор объясняет просто как «шаг в сторону от “Гумберта”, не предусматривающий никаких литературных аллюзий» [14, c. 451], то имя «Герман» говорит само за себя: это автоаллюзия. «Рассказчик отсылает нас к роману “Отчаяние”, где главного героя и повествователя (убийцу и лжехудожника) зовут Герман» [6, с. 650].
Итак, взаимные отсылки романов очевидны. И дело, конечно, не в том (или, точнее, не столько в том), что в «Отчаянии» «[в] рамках детективной истории о мнимом двойничестве и об “убийстве как разновидности изящных искусств” Набоков оригинально разыгрывает вечные литературные сюжеты о гении и злодействе, истинном и ложном таланте, преступлении и наказании, которые впоследствии будут развернуты в <…> “Лолите”» [9]. В конце концов, большинство протагонистов Набокова – художники или лжехудожники, а детектив и двойничество (несмотря на заявления писателя об отсутствии в его романах двойников [7, с. 201]) присутствуют, в различных проявлениях и масштабах, почти в каждом его романе. Связь между «Отчаянием» и «Лолитой» гораздо глубже просто тематической связи – это связь структур.
«Структурная поэтика выделяет в художественном тексте ряд уровней, располагаемых друг над другом по мере усложнения организации» [13, с. 255]. Выделяются и группы норм, организующих художественный текст. Горизонтальные нормы функционируют в пределах какого-то одного уровня текста. Вертикальные нормы управляют поведением нескольких уровней одновременно. Они придают произведению единство и целостность, «как бы сшива[я], склеива[я] различные уровни в единый блок» [4, с. 13] и фиксируя на этих различных уровнях единый эстетический смысл.
Вертикальной нормой «Отчаяния» является категория «удвоения». Явное и нарочитое удвоение демонстрируют и удвоению подвергаются практически все элементы каждого уровня структуры романа: эпизоды, детали и мотивы, системы персонажей и голосов. Самый тип риторического построения текста предполагает удвоение: «Отчаяние» есть «текст в тексте», причем «внешний» и «внутренний» тексты идентичны, и только жанровое их определение различается: «внешний» текст, текст Набокова, озаглавлен «Отчаяние» и определяется как роман; «внутренний» текст, имеющий то же название, написан персонажем Германом и именуется им то повестью, то рассказом [1].
Вертикальной нормой «Лолиты» является категория «половины». Все элементы структуры романа подвергаются операции «сведения к половине» [3]. «Половинчат» и тип риторического построения текста: роман состоит из двух частей, из двух «половин»: «Исповеди Светлокожего Вдовца» Гумберта и «Предисловия» к ней Рэя [2, с. 47–50].
Итак, «Отчаяние» – роман «удвоенный», «Лолита» – роман «половинчатый». Таким образом, в основании обоих романов лежит цифра «2»: 2 1 в одном случае и 1 2 – в другом, так что их художественные системы суть диаметрально противоположны, суть зеркальные отражения друг друга (в обоих романах, кстати, зеркала играют важнейшую роль).
Осознание такого характера взаимоотношений двух романов может помочь при анализе различных аспектов их поэтики. В настоящей статье мы воспользуемся им, чтобы предложить структурные (т. е. подтверждаемые структурой текста) обоснования эстетической закономерности решения о судьбах Германа и Гумберта за пределами текста (и жизни). Напомним: «есть в раю зеленая аллейка, по которой Гумберту позволено один раз в году гулять на закате; но никогда ад не отпустит Германа ни под какой залог». Разумеется, таких обоснований гораздо больше двух, предлагаемых здесь, но размеры статьи позволяют обозначить только их. Мы ограничимся рассмотрением фабульной модели обоих романов и определением их эстетической модальности.
Построение «текст в тексте» определяет наличие в «Отчаянии» удвоенной фабульной модели. Первая модель включает все четыре фазы [12, с. 45–46]: обособления (поездка Германа в Прагу), нового партнерства (знакомство с Феликсом), лиминальную (убийство Феликса) и преображения («перерождение» Германа в Феликса) и разворачивается на пространстве повести Германа. При этом принципиально, что перерождение персонажа не удается. Поэтому эпилог в главе Х, предусматривавший happy-end, оказывается ложным, и нам предлагается еще одна фабульная модель, которая разворачивается в пределах одной последней главы (ХI) – главы, которая композиционно принадлежит роману, т. е. является «территорией» автора (Набокова) и пародийно отражает первую фабульную модель. Во второй фабульной модели полностью представлены и реализованы только две фазы – обособления (побег Германа в горную деревеньку) и нового партнерства (с жандармом, напоминающим покойного Феликса). Роман заканчивается на «пороге» лиминальной фазы: Германа, как несложно понять, ожидают арест и казнь. А фазы преображения во второй модели нет вовсе, что «означает художественную дискредитацию жизненной позиции персонажа» [12, с. 47] и объясняет то, что «никогда ад не отпустит Германа ни под какой залог».
В свою очередь, фабула «Лолиты», подчиняясь категории «половины» как организующей текст вертикальной норме и определяясь отношениями «Предисловия» и «Исповеди…», дробится внутри себя. Вслед за фазой обособления (осознанием Гумбертом того, что «отрава [неутоленной любви к Аннабелле] осталась в ране» [8, с. 27]), следуют многократно повторяющиеся фазы «ложного партнерства» (встречи и расставания с Monique, Марией, Валерией, Шарлоттой – пусть последняя есть только средство подобраться к Лолите). В совокупности они составляют сюжет поисков нимфетки, способной «рассеять наваждение» [8, с. 24], заменив Аннабеллу. «Партнерство» с Лолитой – особенное: оно нарушает этот порядок: Лолита, двойник Аннабеллы, не заменивший, но затмивший ее, заставляет Гумберта вступить в сюжетные отношения и с его собственным двойником – с Куильти. Это двойничество – особое: читатель до конца остается в неведении относительно того, является ли Куильти самостоятельным персонажем или только порождением раздвоившегося сознания Гумберта.
Расставание с Лолитой (возможно, смерть Лолиты [5, с. 328, сн. 46]) вновь делит фабульную модель. С одной стороны, наступает фаза преображения – Гумберт осознает, что любит Лолиту, с другой стороны, серии фаз партнерства не прекращаются: в его жизни появляется Рита; а кроме того, после еще одной (возможно, вымышленной) встречи с Лолитой, наконец завершается (возможно, тоже лишь в воображении) «партнерство» с Куильти – лиминальной фазой тут оказывается убийство его Гумбертом. Таким образом, «преображение» Гумберта оказывается под сомнением, и именно этим расщеплением фабульной модели объясняется приговор Гумберту: он не проклят навсегда, как Герман, но и не помилован окончательно.
Рассмотрение уровней структуры текста и определение его вертикальной нормы позволяет идентифицировать эстетическую модальность произведения, т. е. ту стратегию «оцельнения», которая предполагает «не только соответствующий тип героя и ситуации, авторской позиции и читательской рецептивности, но и внутренне единую систему ценностей и соответствующую ей поэтику» [12, с. 154]. Эстетические модальности романов оказываются взаимно противоположны и дают очередное обоснование эстетической неизбежности приговора персонажам.
Эстетическая модальность «Отчаяния» – сатира. Личность Германа полностью определяется формулой сатирического модуса художественности: он не совпадает со своей ролью, оказывается у же ее. В самом деле, важность и исключительность Германа в глазах других оказывается лишь плодом его воображения. Важнее, однако, то, что в конце концов он сам начинает сомневаться в собственной гениальности. Однако текст его повести выдает его: вне зависимости от его воли саморазоблачение присутствует в тексте с самого начала и, благодаря идентичности «внешнего» и «внутреннего» текстов «Отчаяния», равно разоблачению героя автором. Уже с первых строк устанавливается четкое распределение ролей: той, что приписывает себе Герман (творец), и той, которую он на самом деле исполняет (актер) под руководством истинного творца (Набокова). В акте же самоотрицания сатирическая личность становится сама собою [12, с. 158], так что, признавая свою вторичную суть, Герман вместе с тем признает и справедливость будущего сурового приговора себе.
Эстетическая модальность «Лолиты» диаметрально противоположна сатире «Отчаяния»: Набоков сам обозначил свой роман как трагедию [10], это подтверждает и анализ текста. В трагедии «граница личностного самоопределения оказывается шире ролевой границы присутствия «я» в мире», что ведет к преступлению и виновности героя перед лицом миропорядка [12, с. 159]. Трагическая раздвоенность Гумберта между свободой (желанием обладать нимфетками, в частности Лолитой) и долженствованием (пониманием недопустимости претворения этого желания в жизнь, пониманием всего несчастья Лолиты с ним) воплощается в соперничестве и одновременно двойничестве Гумберта и Куильти, Гумберта-описываемого и Гумберт-описывающего (термины А. Долинина [долинин]), наконец, в двойничестве (или же расщеплении) Гумберта, автора «Исповеди…», и Рэя, автора «Предисловия» к ней.
Восстановить распавшуюся целостность «я» можно ценой свободного отказа от мира или от себя. Гумберт, после убийства Куильти, сдается властям, а затем пишет «книгу о Лолите» [8, с. 311], стремясь раскрыть в ней не столько собственную трагедию (в которой, кстати, он убедил немногих), сколько именно трагедию Лолиты, полностью признавая теперь (на уровне Гумберта-описывающего, на уровне Рэя), что ее «я» было воистину несоизмеримо шире той роли, которую он (Гумберт-описываемый) ей отводил. Поскольку цель его – «спасти, не голову [свою], конечно, а душу» [8, с. 375], то его действительно ждет спасение – «в искусстве» – то «единственное бессмертие» [8, с. 376], которое он может разделить со своей Лолитой. Для трагического персонажа «самоотрицание оказывается способом самоутверждения» [12, с. 160], что подтверждает затем и пожалованное Гумберту разрешение прогуляться раз в году по тенистой аллейке рая.
Итак, даже рассмотрев лишь два аспекта поэтики романов Набокова «Отчаяние» и «Лолита», мы убедились, что их протагонисты и повествователи Герман и Гумберт, будучи элементами их художественных систем, и за пределами текста – в оценке автора – подчиняются определяющим романы диаметрально противоположным вертикальным нормам «удвоения» и «половины», соответственно. Вынесенный им приговор – вечный ад для одного и возможность прогуляться по зеленой аллейке рая раз в году для другого – справедлив не в силу каких-либо дидактических соображений, но только и исключительно потому, что отвечает художественной организации романов и является эстетически логичным и неизбежным.