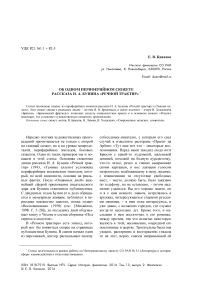Об одном периферийном сюжете рассказа И.А. Бунина "Речной трактир"
Автор: Капинос Елена Владимировна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.13, 2014 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена одному из периферийных сюжетов рассказа И. А. Бунина «Речной трактир» («Темные аллеи»). Этот сюжет связан с реальным лицом – поэтом В. Я. Брюсовым, и имеет подтекст – очерк В. Ходасевича «Брюсов». «Брюсовский фрагмент» позволяет увидеть символистские краски и в основном сюжете «Речного трактира», что усложняет художественную семантику произведения.
Сюжет, мотив, в. брюсов, н. львова, в. ходасевич, "современные записки", символизм
Короткий адрес: https://sciup.org/147219012
IDR: 147219012 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи Об одном периферийном сюжете рассказа И.А. Бунина "Речной трактир"
Нередко поэтика художественных произведений прочитывается не только с опорой на главный сюжет, но и на уровне микродеталей, периферийных эпизодов, боковых сюжетов. Один из таких примеров мы и покажем в этой статье. Основная сюжетная линия рассказа И. А. Бунина «Речной трактир» (1943, «Темные аллеи») усложнена периферийным московским эпизодом, который, по всей видимости, основан на реальных фактах. После «Окаянных дней» важнейшей сферой приложения писательского дара для Бунина становится публицистика. С двадцатых годов Бунин то и дело обращается к мемуарным жанрам, публикует в периодике множество заметок, позже издает «Воспоминания» (1950) (см.: [Михайлов, 1998. С. 5–20]), до последних дней обдумывает книгу о Чехове и состав сборника «Под серпом и молотом».
В «Речном трактире» есть эпизод, который мог бы появиться скорее на страницах публицистики Бунина. В самом начале один из персонажей, доктор, рассказывает своему собеседнику-писателю, с которым его свел случай в известном ресторане «Прага» на Арбате: «Тут еще вот что – некоторые воспоминания. Перед вами заходил сюда поэт Брюсов с какой-то худенькой, маленькой девицей, похожей на бедную курсисточку, что-то четко, резко и гневно выкрикивал своим картавым, в нос лающим голосом метрдотелю, подбежавшему к нему, видимо, с извинениями за отсутствие свободных мест, – место, должно быть, было заказано по телефону, но не оставлено, – потом надменно удалился. Вы его хорошо знаете, но и я с ним немного знаком, встречались в кружках, интересующихся старыми русскими иконами, – я ими тоже интересуюсь, и уже давно, с волжских городов, где служил когда-то несколько лет. Кроме того, и наслышан о нем достаточно, о его романах, между прочим, так что испытал некоторую жалость к этой, несомненно, очередной его поклоннице и жертве. Трогательна была она ужасно, растерянно и восторженно глядела то на этот, верно, совсем непривычный ей ресторанный блеск, то на него, пока он скандировал свой лай, демонически играя черными глазами и ресницами» [Бунин, 1966. С. 177]. Затем от Брюсова рассказчик переходит к давней истории, составляющей основной сюжет рассказа: «Я вспомнил… как лет двадцать тому назад шел однажды по улицам одного приволжского города некий довольно молодой военный врач, то есть, попросту говоря, я самый» [Бунин, 1966. С. 177]. Рассказчик, как часто бывает у Бунина, щедро наделен автобиографическими чертами (см.: [Капинос, 2010. С. 132– 143]). Это подталкивает к тому, чтобы вспомнить реальные отношения Бунина и Брюсова, отличавшиеся напряженным вниманием друг к другу и взаимным неприятием. Напечатав стихотворный сборник «Листопад» (1901) в «Скорпионе» у Брюсова, Бунин резко разошелся с символистами (см. об этом: [Классик без ретуши…, 2010. С. 47–59]), а позже, во Франции, как и многие другие эмигранты, скорее всего, задавал себе вопрос об оставшемся в Москве Брюсове: «Как и почему он сделался коммунистом?».
С этого вопроса начинается финальная часть статьи Ходасевича о Брюсове [1997. С. 35], об этом очерке и пойдет речь. Еще в Одессе, в 1918 г., давая интервью сотруднику «Одесского листка», Бунин не преминет заметить о Брюсове: «Зря пустили слух о том, будто Валерий Брюсов пошел к большевикам. Он работает еще с дней Вр<емен-ного> правительства в комиссии по регистрации печати, остается в ней и поныне. Ему приходится, правда, работать с комиссаром Подбельским, к которому крайне резко относится вся печать, и даже иногда заменяет его, но все же говорить о большевизме Брюсова не приходится» [Бунин, 1998. С. 21].
Примечательно, что Бунин оставляет возможность довольно точной датировки московского эпизода в «Речном трактире»: «Пообедали вместе, порядочно выпив водки и кахетинского, разговаривая о недавно созванной Государственной думе, спросили кофе…» [Бунин, 1966. С. 176]. Видимо, речь идет о IV созыве Государственной думы, тогда все происходящее относится к весне 1913 г. (в четвертый раз Дума была созвана в ноябре 1912). Упоминание о Государственной думе поддерживает «историческую» линию «Темных аллей», книги, которая за- печатлела судьбу поколения, расцвет которого был прерван революцией. В «Чистом понедельнике» далеко не случайно в ряд древних русских церквей и монастырей вписывается Марфо-Мариинская обитель, открытая в 1909 г., за 8 лет до революции, а здесь, в «Речном трактире», говорится не просто об очередном, а о последнем созыве Государственной думы, прекратившей свою работу в феврале 1917-го.
Если от большой истории перейти к обзору частных событий, то вспоминается, что к 1913 г. относится финал трагической любви к Брюсову Надежды Львовой. В конце ноября информация о смерти Львовой просочилась на страницы московской газеты «Русское слово» [Лавров, 2007а. С. 199] и, вероятно, не укрылась от внимания Бунина. Однако еще ярче, под знаком русского символистского ретро, сюжет любви Львовой и Брюсова открывается в очерке Ходасевича «Брюсов», опубликованном в XXIII книге «Современных записок» за 1925 г., и, несомненно, читанном Буниным.
О том, что Бунин хорошо помнил очерк Ходасевича, свидетельствует небольшой этюд Бунина о Брюсове, включенный в «Заметки», появившиеся в «Последних новостях» за 19 сентября 1929 г. В некоторых мотивах этот текст повторяет очерк Ходасевича: и Бунин, и Ходасевич обращают внимание на купеческие корни Брюсова, подробно описывают дом на Цветном бульваре, полученный Брюсовым в наследство от купца-деда. Бунин отмечает «азиатское» в облике поэта («я увидел и впрямь еще очень молодого человека с довольно толстой и тугой гостинодворческой (и довольно азиатской) физиономией» [1998. С. 314]. Одна из черт Брюсова, запечатленная в воспоминаниях Бунина, перекочует в «Речной трактир», причем манера речи Брюсова в публицистическом тексте описана еще выразительнее, чем в рассказе: «говорил этот гостинодворец очень изысканно, с отрывистой гнусавой четкостью, точно лаял в свой дудкообразный нос» [Там же]. Возможно, замечание Ходасевича о Надежде Львовой как о курсистке («она училась в Москве на курсах») превратится у Бунина в «Речном трактире» в «бедную курсисточку». Более того, в другом рассказе из «Темных аллей», в «Генрихе», среди периферийных персонажей обнаруживается юная поэтесса Наденька, которую обманывает искушенный в любви Глебов, тоже, конечно, поэт (к слову сказать, фамилия «Глебов» имеет такое же окончание и количество слогов, как и Брюсов).
Можно только гадать, как поведет себя Наденька, узнав о двойной, по крайней мере, измене Глебова - судьба этой героини остается неизвестной, как и судьба брюсовской спутницы в «Речном трактире».
Возвращаясь к очерку Ходасевича, заметим, что его кульминацией является биография Надежды Львовой, тогда как в воспоминаниях Бунина о Львовой не говорится. Сама история и предыстория самоубийства описываются у Ходасевича очень кратко, однотипными предложениями, напоминающими безоценочный хроникальный стиль («Львова позвонила по телефону Брюсову, прося тотчас приехать. Он сказал, что не может, занят. Тогда она позвонила к поэту Вадиму Шершеневичу <_> Шершеневич не мог пойти - у него были гости. Часов в 11 она звонила ко мне - меня не было дома. Поздним вечером она застрелилась» [Ходасевич, 1997. С. 32]. Сцена похорон, напротив, детальна и эмфатична: «Надю хоронили на бедном Миусском кладбище, в холодный, метельный день. Народу собралось много. У открытой могилы, рука об руку, стояли родители Нади, приехавшие из Серпухова, старые, маленькие, коренастые, он -в поношенной шинели с зелеными кантами, она - в старенькой шубе и в приплюснутой шляпке. Никто с ними не был знаком. Когда могилу засыпали, они, как были, под руку, стали обходить собравшихся. С напускною бодростью, что-то шепча трясущимися губами, пожимали руки, благодарили. За что? Частица соучастия в брюсовском преступлении лежала на многих из нас, все видевших и ничего не сделавших, чтобы спасти Надю. Несчастные старики этого не знали. Когда они приблизились ко мне, я отошел в сторону, не смея взглянуть им в глаза, не имея права утешать их» [Там же].
Спасти, вырвать девушку из гибельного для нее окружения - этот традиционный сюжет, хорошо известный русской литературе по Достоевскому, Некрасову, становится основой для периферийного (московского) и основного (волжского) сюжетов «Речного трактира». В символистской подсветке (а именно законам символистской культуры посвящены очерк Ходасевича «Брюсов» и парный ему в «Некрополе»
«Конец Ренаты») сюжет о спасении героини получает новое звучание у Бунина. Во-первых, как и Ходасевич, Бунин видит и оценивает русский символизм в ретроспекции и интересуется им не только как высокой поэтической культурой, но и как (если прибегать к современным терминам) «субкультурой», соединяющей высокое и низкое, прославленное и безвестное, глобальный ход истории и частную биографию.
Для Брюсова история взаимоотношений с Надеждой Львовой, начавшаяся с редактирования ее стихов, принесенных юной поэтессой в редакцию «Русской мысли» (см.: [Лавров, 2007а. С. 207]), была не только жизненным, но и литературным экспериментом. Результатом эксперимента стали «Стихи Нелли», написанные Брюсовым по следам сразу двух романов - с Надеждой Львовой и Еленой Сырейщиковой: обе возлюбленные становятся прообразом Нелли (см.: [Лавров, 2007б. С. 163-167] и др.), их «женским» голосом говорит поэт. «Нелли» - так называлась новая литературная маска Брюсова, подобная придуманной Волошиным маске «Черубины де Габриак». Брюсов перевоплощался в героиню, осуществляя опыт лирического письма от женского лица. Однако жизненная, а не литературная история Нади Львовой с настоящим, а не разыгранным самоубийством в финале, подробно выписанная у Ходасевича и, как нам кажется, подразумеваемая у Бунина, становится одной из выразительных картин русского декаданса, охватившего страну накануне ее гибели.
Эпизод с Брюсовым позволяет заметить некоторые «наведения» на символизм и в основной части «Речного трактира», где героиня тоже оставлена без имени, предстает незнакомкой, чья судьба, как и судьба «курсисточки», взывает к спасению. Через церковь и кабак, через два антитетических топоса спасения и греха проводит Бунин свою незнакомку. Старая церковь в волжском городе подробно описывается в рассказе. В безлюдной сводчатой полутемной церкви, в светлом облике героини, в том, как рассказчик преследует ее, пытается отгадать ее тайну, мучается чувством причастности к ее существованию - отдаленно опознаются черты блоковской Прекрасной Дамы. Появление в речном трактире таинственной незнакомки, совсем не вписывающейся в контекст кабацкой жизни, тоже отдаленно, намекает на блоковскую «Незнакомку» («По вечерам над ресторанами…»).
Церковное пространство в рассказе Бунина отделено от мирской жизни тяжелой дверью («С трудом отворяет тяжелую дверь» [Бунин, 1966. С. 178]), тогда как кабацкое, ресторанное, напротив, неприкрыто распахнуто («…пригласил меня к своему столику возле окна, открытого на весеннюю теплую ночь…» [Там же. С. 176] – это сцена в «Праге». «Ночью сидишь, например, в таком трактире, смотришь в окна, из которых состоят три его стены, а когда в летнюю ночь они все открыты на воздух…» [Там же. С. 179] – это речной трактир). Волжский простор в «Речном трактире» сосредотачивает в себе ужас русской жизни и истории, на которой лежит азиатская печать: «видишь тысячи рассыпанных разноцветных огней, слышишь плеск идущих мимо плотов, перекличку мужицких голосов на них или на баржах, на белянах, предостерегающие друг друга крики, разнотонную музыку то гулких, то низких пароходных гудков и сливающиеся с ними терции каких-нибудь шибко бегущих речных паровичков, вспоминаешь все эти разбойничьи и татарские слова – Балахна, Васильсурск, Чебоксары, Жигули, Батраки, Хвалынск – и страшные орды грузчиков на их пристанях, потом всю несравненную красоту старых волжских церквей – и только головой качаешь: до чего в самом деле ни с чем не сравнима эта самая наша Русь!» [Там же. С. 180].
В волжской церкви рассказчик, преследующий незнакомку, обращает внимание на ризы икон, ими лики святых укрыты от прямого взгляда, а молитва незнакомки делает Божественное присутствие несомненным и притягательным для героя, это чувство антитетично обманчивому виденью. В трактире, напротив, все картины необычайно ярки, но искажены и миражны: за портретами людей проглядывает весьма разнообразный бестиарий («хозяин… с медвежьими глазками», «Иван Грачев <…> зарычал, запел ими, ломая, извивая и растягивая меха толстой змеей… потом вскинул морду» [Там же. С. 181], «какой-то “знаменитый Иван Грачев”… залился женским голосом: “Я вечор в лужках гуляла, грусть хотела разогнать”» [Там же]; песня «про какого-то несчастного “воина”, будто бы вернувшегося из долгого турецкого плена» говорит о неузнанности, потерянности, забвении: «Ивво рад-ныи-и ни узнали-и, спро-си-и-ли воин-а, кто ты-ы» [Там же].
Сцена с Брюсовым и курсисточкой в «Праге» предваряет сюжет волжской незнакомки, служит увертюрой к основной части рассказа, а курсисточка и незнакомка, таким образом, воспринимаются как двойники. Причем похожими их делает не только их положение рядом с «опасным» человеком (Брюсовым в первом случае и бывшим гусарским поручиком во втором), но и неопределенность судьбы: истории обеих героинь оставлены у Бунина без завершения, и если первую, совсем короткую, линию Брюсова и его поклонницы мы можем условно восстановить, то о финале второй, главной, линии повествования сказать ничего нельзя. Несостоявшееся спасение оставляет героиню «на перепутье», а сюжет так и замирает между церковью и трактиром, что обращает читателя к переживанию русской предреволюционной истории. Чистые, жертвенные и жалкие в своей жертвенности героини, которым грозит погибель, становятся у Бунина олицетворенным воплощением гибели своей страны, переживающей одновременно высший расцвет и падение.
Список литературы Об одном периферийном сюжете рассказа И.А. Бунина "Речной трактир"
- Бунин И. А. Публицистика 1918-1953 годов. М.: Наследие, 1998. 640 с.
- Бунин И. А. Собр. соч.: В 9 т. М.: Худож. лит., 1966. Т. 7: «Темные аллеи», рассказы 1931-1952. 400 с.
- Капинос Е. В. «Некто Ивлев»: возвращающийся персонаж Бунина//Лирические и эпические сюжеты. Серия «Материалы к Словарю сюжетов и мотивов русской литературы». Новосибирск, 2010. С. 132-143.
- Классик без ретуши: литературный мир о творчестве И. А. Бунина. Критические отзывы, эссе, пародии (1890-е -1950-е годы): Антология. М.: Книжница; Русский путь, 2010. 928 с.
- Лавров А. В. Вокруг гибели Надежды Львовой. Материалы из архива Валерия Брюсова//Лавров А. В. Русские символисты: этюды и разыскания. М.: Прогресс-Плеяда, 2007а. С. 199-208.
- Лавров А. В. «Новые стихи Нелли» -литературная мистификация Валерия Брюсова//Лавров А. В. Русские символисты: этюды и разыскания. М.: Прогресс-Плеяда, 2007б. С. 154-198.
- Михайлов О. Н. Страстное слово//Бунин И. А. Публицистика 1918-1953 годов. М.: Наследие, 1998. С. 5-20.
- Ходасевич В. Ф. Собр. соч.: В 4 т. М.: Согласие, 1997. Т. 4. 744 с.