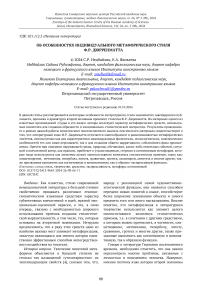Об особенностях индивидуального метафорического стиля Ф.Р. Дюрренматта
Автор: Недбайлик С.Р., Яковлева Е.А.
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 98 т.26, 2024 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассматриваются некоторые особенности литературного стиля знаменитого швейцарского публициста, прозаика и драматурга второй половины прошлого столетия Ф.Р. Дюренматта. На материале одного из известных произведений «Судья и его палач» авторы исследуют характер метафорических средств, используемых писателем для создания образности и эмоционально-стилистической экспрессии. Результаты проведенного в рамках данной работы комплексного многоаспектного анализа лексического материала свидетельствуют о том, что литературный язык Ф.Р. Дюренматта отличается многообразием и разноплановостью метафорических эпитетов, используемых как для характеристики индивидуальных физических, психологических, поведенческих особенностей тех или иных персонажей, так и для создания общего нарративного, событийного фона произведения. Причем при описании окружающей среды, природы, обстановки, каких-либо отдельных событий, ситуаций и впечатлений автор, как правило, прибегает к узуализованным, стертым и когнитивным метафорам, которые чаще используются как элементы целого многосоставного комплекса стилистических приемов, таких как: олицетворение, метонимия, гипербола, литота, сравнение, гротеск, оксюморон, антитеза и многие другие, также призванные выполнять как когнитивную и номинативную, так и образно-экспрессивную функции.
Стиль, творчество, средство, экспрессивность, метафора, когнитивный
Короткий адрес: https://sciup.org/148330426
IDR: 148330426 | УДК: 821.112.2 | DOI: 10.37313/2413-9645-2024-26-98-66-71
Текст научной статьи Об особенностях индивидуального метафорического стиля Ф.Р. Дюрренматта
EDN: OJCYHC
Введение . Как известно, стилю современной немецкоязычной литературы в большой степени свойственно придавать различным лексикосемантическим языковым средствам характер субъективных впечатлений и идей, нужной эмоционально-оценочной окраски, а это, в свою очередь, связано с необходимостью широкого использования приемов создания стилистической выразительности, в том числе, тех, которые основаны на вторичной номинации. Нетрудно предположить, что в ряду этих средств одно из наиболее важных мест занимает метафоризация, зачастую являющаяся для многих авторов единственно эффективным способом непосредственного воздействия на читателя.
История вопроса. Увлечение писателей метафорами объясняется в большой степени не столько так называемой «утилитарностью» их эксплицирующих свойств [4], сколько тем, что, наряду с реализацией самой художественноэстетической функции, они являются способом передачи новых понятий в языке, способствуют более широкому пониманию объекта и самого предмета того или иного высказывания. Вполне понятно, что метафоризация в литературном творчестве используется как элемент целого многосоставного комплекса стилистических приемов, т.е. в сочетании с другими средствами, к которым можно причислить, в частности, олицетворение, метонимию, гиперболу, литоту, сравнение, гротеск и многие другие, также призванные выполнять как когнитивную и номинативную, так и образную функции.
Говоря о литературе Германии послевоенного времени, необходимо отметить, что она заново пересмотрела многие проблемы, связанные с личностью и поведением человека. Наверное, именно поэтому язык авторов второй половины
XX в. (Г.Т. Бёлля, Э.М. Ремарка, Ф.Р. Дюрренматта) гораздо менее насыщен метафорами и более прост, чем у ранних авторов. Кроме того, по мере приближения к стилю современной литературы становится еще более яркой существующая тенденция активного сближения письменного языка с разговорным, отмеченная впервые уже в конце XVIII в., что проявляется, в частности, не только в значительном упрощении синтаксической структуры текстов, но и в увеличении в них числа универсальных конструкций, различных экспрессивных элементов [8]. Поскольку писателям так называемого «нового» поколения, взявшимся за перо после войны, нужно было создавать письменную культуру как бы с «чистого листа», вполне очевидно, что единственную возможность духовного возрождения литературы они видели в том, чтобы абсолютно и радикально изменить ее стилистическую направленность [9], а это выражалось, прежде всего, в их стремлении показать реальную правду, как бы жестока и беспощадна она ни была, рассказать без прикрас, лишних символов и аллегорий о том, что они видели своими глазами. Причем если Э. М. Ремарк создал свой роман «Три товарища» после первой мировой войны и незадолго до второй мировой войны, то произведения Г.Т. Бёлля и Ф.Р. Дюрренматта были написаны уже после второй мировой войны, относясь к литературному направлению, вполне справедливо называемому «восстановлением и реставрацией» [11, с. 289]. Так или иначе, военная эпоха со всей ее трагедийностью, насыщенностью событиями серьезно повлияла на художественную литературу того времени, для которой характерен особый, пристальный интерес к проблемам человеческой личности, к общефилософским, этическим вопросам вины, моральной ответственности перед отдельным человеком, перед всем народом за его судьбу. Поэтому неудивительно, что почти все герои рассказов тогдашних авторов имеют довольно сложный жизненный путь, а нередко становятся и так называемыми «аутсайдерами».
Методы исследования . В работе используются методы стилистического, сравнительносопоставительного, структурно-семантического анализа художественного текста.
Результаты исследования. Что касается популярного швейцарского публициста, прозаика и драматурга с мировым именем Ф.Р. Дюрренматта, то его творческий стиль отличается от литературного почерка многих авторов того же времени, прежде всего, тем, что в его произведениях нет непосредственных упоминаний о войне, кроме того, в них обнаруживается гораздо меньшее количество средств создания выразительности. Среди его многочисленных трудов хочется отметить, прежде всего, роман «Der Richter und sein Henker» («Судья и его палач»), написанный в 1952 г., когда в Швейцарии были ещё очень свежи воспоминания о национал-социализме. Именно в этом произведении автор фактически изложил свои каноны детектива: пессимизм и философичность на фоне привычного расследования [3]. Главная особенность романа состоит в том, что интрига сохраняется фактически до самого конца, что держит читателя в постоянном напряжении. В описаниях персонажей, окружающих предметов, природы писатель предпочитает прибегать к простым, когнитивным и стершимся, «нейтральным» метафорам, не имеющим большого эмоционального эффекта [5].
Необходимо отметить, что одной из наиболее часто используемых в произведении автора разновидностей метафорических номинаций является когнитивная метафора, выполняющая гносеологическую функцию и формирующая новые значения прилагательных и глаголов, признаки которых выделяются по аналогии со сходными им в восприятии автора [9]. Так, в первом же предложении романа мы видим довольно яркий пример: Alphons Clenin, der Polizist von Twann, fand am Morgen des dritten November neunzehn-hundertachtundvierzig dort, wo die Straße von Lamboing aus dem Walde der Twannbachschlucht hervortritt, einen blauen Mercedes, der am Straßen-rande stand.
Es herrschte Nebel, wie oft in diesem Spätherbst, und eigentlich war Clenin am Wagen schon vorbei-gegangen, als er doch wieder zurückkehrte.
Es war ihm nämlich beim Vorbeischreiten gewe-sen, nachdem er flüchtig durch die trüben Scheiben des Wagens geblickt hatte, als sei der Fahrer auf das Steuer niedergesunken [10, с.152].
В данном отрывке можно увидеть два примера использования когнитивной метафоры: «die Straße von Lamboing aus dem Walde der Twann-bachschlucht hervortritt» – «дорога выходит из ущелья» и «Es herrschte Nebel» – «стоял туман», «господствовал туман». Явные изменения в комбинаторике глагола подтверждают то, что данные метафоры – когнитивные. В первом случае глагол «hervortreten» переводится как «выступать вперед» (о человеке), поэтому здесь налицо персонификация. Во втором случае мы также видим использование олицетворения, так как глагол «herrschen» имеет значение «господствовать, править, управлять» и, как правило, употребляется при описании монарха или какой-либо главы государства. На наш взгляд, в соответствии с принятой классификацией, обе метафоры можно отнести к «стертым».
Erlief am Straßenrande hin und her. Als die auf-gehende Sonne durch den Nebelbrach und den To-tenbeschien, war ihm das unangenehm.
Er kehrte zum Wagen zurück, hob den grauen Filzhut auf, der zu Füßen der Leiche lag, und drück-te ihr den Hut über den Kopf, so tief, dass er die Wunde an den Schläfen nicht mehr sehen konnte, dann war ihm wohler [10, с.152].
В данном отрывке описывается момент, когда деревенский полицейский Альфонс Кленин обнаруживает покойника. Когнитивную метафору «die aufgehende Sonne durch den Nebel brach» в этом случае можно перевести как «восходящее солнце пробилось сквозь туман». Сам глагол «brechen» имеет в обычном контексте значение «ломать, разломать, разбивать» . По общепринятой классификации, эту метафору также можно отнести к «стертым», так как она часто используется в повседневном контексте, например: «лучи солнца пробиваются …».
В описании девушки одного из героев романа мы видим еще один яркий пример использования когнитивной метафоры:
Drunten auf dem Platz fuhr ein Mercedes vor, leuchtete unter einer Straßenlaterne blau auf, hielt zwischen an deren Wagen, die dort parkten. Bärlach sah genauer hin. Tschanz stieg aus und ein Mädchen in weißem Regenmantel, über den das Haar in blon-den Strähnen floss [10, с.165].
«ein Mädchen in weißem Regenmantel, über den das Haar in blonden Strähnen floss»– «девушка в белом плаще, по которому струились светлые пряди волос».
Глагол «fliessen» имеет значение «течь», «струиться». Благодаря этой метафоре, которую можно, на наш взгляд, отнести к «резким», волосы уподобляются водопаду, роднику. Наличие в данном фрагменте полисемантического варианта подтверждает то, что выбранная нами метафора действительно является когнитивной [1].
Наряду с когнитивными, в тексте романа «Судья и его палач» можно встретить и номинативные метафоры. Так, в следующем эпизоде дается описание комнаты убитого полицейского Ульриха Шмидта и вида из ее окна: Das Zimmer lag zu ebener Erde, und durch die Gartentüre sah man in einen kleinen Park, in welchem alte, braune Tannen standen, die krank sein mussten, denn der Boden war dicht mit Nadeln bedeckt. Es musst e das schönste Zimmer des Hauses sein [10, с.164].
Существительное «Die Nadel» обычно переводится как «иголка, булавка, шпилька» , однако в данном случае это слово имеет значение «хвоя». Выбранную нами метафору можно отнести к номинативным, так как она служит источником омонимии, являясь явно «стертой».
«Ich wurde ein immer besserer Verbrecher und du ein immer besserer Kriminalist: Den Schritt je-doch, den ich dir voraus hatte, konntest du nie ein-holen.
Immer wiedertauchte ich in deiner Laufbahn auf wie ein graues Gespenst, immer wieder trieb mich die Lust, unterdeiner Nase sozusagen immer kühne-re, wildere, blasphemischere Verbrechen zu bege-hen, und immer wieder bist du nicht imstande ge-wesen, meine Taten zu beweisen. Die Dummköpfe konntest du besiegen, aber ich besiegte dich».
Dann fuhr er fort, den Altenaufmerksam und wie belustigt beobachtend [10, с.175].
Данный фрагмент текста содержит разговор главного героя романа комиссара Берлаха с его давним врагом Гастманом. Много лет комиссар пытался доказать, что тот виновен в совершенном преступлении, но ему это никак не удавалось. Существительное «Laufbahn» имеет значение «беговая дорожка», «карьера», но в данном случае слова Гастмана можно перевести как: «я все время возникал на твоем пути (в твоей жизни)». Данная метафора является, на наш взгляд, номинативной, так как используется для замены одного описательного значения другим, в то же время ее можно считать «стертой».
В романе Ф.Р. Дюрренматта можно встретить и окказиональные образные метафоры: «Er fuhr an der Brücke vorbei, bei der sie gewartet hatten, und dann den Wald hinunter. Da hatte er ein son-derbares und unheimliches Erlebnis, das ihn nach-denklich stimmte. Er war schnell gefahren und sah plötzlich in der Tiefe den See aufleuchten, einen nächtlichen Spiegel zwischen weißen Felsen. Er musste den Tatort erreicht haben. Da löste sich eine dunkle Gestalt von der Felswand und gab deutlich ein Zeichen, der Wagen solle anhalten [10, с.185].
Один из главных героев романа – молодой полицейский Чанц, проезжая через лес на автомобиле, видит озеро. При его описании автор использует развернутую метафору «einen nächtlichen Spiegel zwischen weißen Felsen», ко- торая переводится как «ночное зеркало между белыми скалами», порождая в воображении читателей довольно живописную картину. На примере данной метафоры можно проследить явный переход идентифицирующего лексического значения в предикативное [7].
В следующем же эпизоде описываются похороны Ульриха Шмида, на которых присутствуют персонажи Берлах и его начальник Лутц:
Sie standen auf der Straße, ohne zu reden, beide in schwarzen Mänteln, die siehochschlugen. Es reg-nete, doch spannten sie die Schirme für die wenigen Schritte zum Wagen nicht auf. Blatter führte sie. Der Regen kam nun in wahren Kaskaden, prallte schief gegen die Fenster. Jeder saß unbeweglich in seiner Ecke. Nun muss ich es ihm sagen, dachte Lutz und schaute nach dem ruhigen Profil Bärlachs, der wie so oft die Hand auf den Magen legte [10, с.179].
Мы видим в этом отрывке образную метафору «Der Regen kam nun in wahren Kaskaden» – «теперь дождь полил подлинными каскадами» (как если бы это были каскады). Данная образная, «резкая» метафора помогает читателю представить мрачный образ сильного дождя в день похорон, печаль людей, провожающих покойного в последний путь.
В следующем фрагменте произведения, когда Гастман приходит в дом Берлаха, представлены примеры использования оценочной и когнитивной метафор: Der Mann hinter Bärlachs Schreibtisch klatschte in die Hände, es war ein einziger, grausamer Schlag:
«Nun sind wir am Ende unserer Laufbahn», rief er aus. «Du bist in dein Bern zurückgekehrt, halb ge-scheitert, in diese verschlafene, biedere Stadt, von der man nie recht weiß, wie viel Totes und wie viel Lebendiges eigentlich noch an ihr ist, und ich bin nach Lamboing zurückgekommen, auch dies nur aus einer Laune heraus: Man rundet gern ab, denn in diesem gottverlassenen Dorf hat mich irgendein längst verscharrtes Weib einmal geboren, ohne viel zu denken und reichlich sinnlos, und so habe ich mich denn auch, dreizehnjährig, in einer Regen-nacht fortgestohlen. Da sind wir nun also wieder. Gib es auf, Freund, es hat keinen Sinn. Der Tod war-tet nicht» [10, с.173].
Метафора Der Mann hinter Bärlachs Schreib-tisch klatschte in die Hände, es war ein einziger, grausamer Schlag» переводится как: «человек, сидящий за письменным столом Берлаха, ударил в ладоши– это был одинокий, зловещий удар». Прилагательное «grausam» имеет в данном случае значение «жестокий, зловещий» и очень хорошо передает напряженную атмосферу, царив- шую при встрече двух заклятых врагов. «Der Tod wartet nicht»– «смерть не ждет» – эти слова Гаст-мана представляют собой когнитивную метафору, используемую в комплексе с персонификацией.
Aber wie sie auf eine Handbewegung des Schrift-stellershin in weichen Lehnstühlen saßen, merkten sie überrascht, dass sie im Lichte des kleinen Fensters waren, während sie in diesem niedrigen, grünen Zimmer, zwischen den vielen Büchern das Gesicht des Schriftstellers kaum sahen, so heimtückisch war das Gegenlicht [10, с.184].
Выше представлен отрывок из встречи Берла-ха и Чанца с писателем, сотрудничающим с Га-стманом. Гости усаживаются напротив хозяина, лица которого невозможно разглядеть из-за падающего на него света. Автор использует в данном случае оценочную метафору «so heimtückisch war das Gegenlicht»– «так коварно слепил их встречный свет». Свет из окна здесь наделяется человеческим качеством, поэтому речь опять-таки идет о персонификации.
Нетрудно предположить, что, как и многие другие немецкоязычные авторы, Ф.Р. Дюрренматт пользуется для описаний персонажей, явлений природы и экспрессивно-оценочными метафорами:
«Wie Sie wollen», sagte der Schriftsteller, «kom-men wir auf Gastmann zurück, Kommissär, zu die-sem einen Pol des Bösen. Bei ihm ist das Böse nicht der Ausdruck einer Philosophie oder eines Triebes, sondern seiner Freiheit: der Freiheit des Nichts». «Für diese Freiheit gebe ich keinen Pfennig», ant-wortete der Alte.
«Sie sollen auch keinen Pfennig dafür geben», entgegnete der andere [10, с.182].
В приведенном выше отрывке представлен разговор комиссара Берлаха с писателем о Гаст-мане. В ходе разговора писатель использует метафору, иронично называя Гастмана «einen Pol des Bösen»– «полюсом зла», и таким образом насмехается над тем, как комиссар относится к этому человеку. Сам же писатель понимает натуру Гастмана по-другому, считая его философом и свободным человеком. Вполне очевидно, что данную метафору можно отнести к «резким».
В последнем выбранном нами отрывке мы видим фрагмент из монолога Гастмана, обращенного к Берлаху, в котором он рассказывает об их знакомстве и о чудовищном пари, которое они заключили:
«Und wie wir nun weiterstritten, von den hölli-schen Bränden der Schnäpse, die uns der Judenwirt einschenkte, und mehr noch, von unserer Jugend verführt, da haben wir im Übermut eine Wette ge-schlossen, eben da der Mond hinter dem nahen Kleinasien versank, eine Wette, die wirtrotzig in den Himmel hineinhängten, wie wir etwa einen fürch-terlichen Witz nicht zu unterdrücken vermögen, auch wenn er eine Gotteslästerung ist, nur weil uns die Pointereiztal seine teuflische Versuchung des Geistesdurch den Geist» [10, с.188].
Гастман употребляет экспрессивнооценочную метафору «von den höllischen Bränden der Schnäpse»– «под (воздействием) адского пламени шнапса» для того, чтобы показать, что алкоголь сыграл не последнюю роль в том, что обоим пришла в голову страшная мысль о заключении пари. Эта метафора является также «резкой» по общепринятой классификации.
Выводы . В целом результаты выполненного нами анализа текстового материала свидетельствуют о том, что литературный язык Ф.Р. Дюренматта отличается многообразием и разноплановостью метафорических эпитетов, используемых как для характеристики индивидуальных особенностей персонажей, так и для создания общего нарративного, событийного фона. Причем наиболее часто при описании окружающей среды, природы, обстановки, каких-либо ситуаций автор прибегает к узуализо-ванным, стертым и когнитивным метафорам, используя экспрессивно-оценочные номинации в гораздо меньшем объеме, что отражает общую идейно-психологическую направленность его творчества.
-
1. Апресян, В. Ю., Апресян, Ю. Д. Метафора в семантическом представлении эмоций//Вопросы языкознания. – 1993. – Вып. III. – С.134-167.
-
2. Арутюнова, Н. Д. Метафора и дискурс //Теория метафоры. – М.: Прогресс, 1990. – С. 5–32.
-
3. Бельский, А. А. Зарубежная драматургия: сборник статей. – Пермь: Изд.-во Пермского госуниверситета им. А.М. Горького, 1989. – С. 5–27.
-
4. Брандес, М. П. Стилистика немецкого языка. – М.: «Высшая школа», 1990. –245с.
-
5. Миллер, Д. А. Образы и модели, уподобления и метафоры//Теория метафоры. – М.: Прогресс, 1990. – С. 236265.
-
6. Руссова, Н. Ю. От аллегории до ямба: Терминологический словарь-тезаурус по литературоведению. – М.: «Флинта: Наука», 2004. –296с.
-
7. Телия, В. Н. Метафора как модель смыслопроизводства и ее экспрессивно-оценочная функция// Метафора в языке и тексте. – М.: Наука, 1988. – С. 26-52.
-
8. Томашевский, Б. В. Стилистика. Текст. – Л.: Изд-во Ленинградского государственного университета, 1989. – 267с.
-
9. Федоров, А. В. Очерки общей и сопоставительной стилистики. – М.: Высшая школа, 1991. –196с.
-
10. Dürrenmatt, F. Der Richter und sein Henker. – Berlin, 1952. –386s.
-
11. Rothmann, K. Kleine. Geschichte der deutschen Literatur. – Stuttgart: Philipp Reclamjun. Verlag, 1992. –S.107-154; 269-327.
ON THE PECULIARITIES OF THE INDIVIDUAL METAPHORICAL STYLEOF F.R. DURRENMATT
Sabina R. Nedbaylik, Associate Professor, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of the Department of German and French Languages at the Institute of Foreign Languages
Petrozavodsk State University
Petrozavodsk, Russia
Список литературы Об особенностях индивидуального метафорического стиля Ф.Р. Дюрренматта
- Апресян, В. Ю., Апресян, Ю. Д. Метафора в семантическом представлении эмоций//Вопросы языкознания. -1993. - Вып. III. - С.134-167.
- Арутюнова, Н. Д. Метафора и дискурс //Теория метафоры. - М.: Прогресс, 1990. - С. 5-32.
- Бельский, А. А. Зарубежная драматургия: сборник статей. - Пермь: Изд.-во Пермского госуниверситета им. А.М. Горького, 1989. - С. 5-27.
- Брандес, М. П. Стилистика немецкого языка. - М.: «Высшая школа», 1990. -245с.
- Миллер, Д. А. Образы и модели, уподобления и метафоры//Теория метафоры. - М.: Прогресс, 1990. - С. 236265.
- Руссова, Н. Ю. От аллегории до ямба: Терминологический словарь-тезаурус по литературоведению. - М.: «Флинта: Наука», 2004. -296с.
- Телия, В. Н. Метафора как модель смыслопроизводства и ее экспрессивно-оценочная функция// Метафора в языке и тексте. - М.: Наука, 1988. - С. 26-52.
- Томашевский, Б. В. Стилистика. Текст. - Л.: Изд-во Ленинградского государственного университета, 1989. -267с.
- Федоров, А. В. Очерки общей и сопоставительной стилистики. - М.: Высшая школа, 1991. -196с.
- Dürrenmatt, F. Der Richter und sein Henker. - Berlin, 1952. -386s.
- Rothmann, K. Kleine. Geschichte der deutschen Literatur. - Stuttgart: Philipp Reclamjun. Verlag, 1992. -S.107-154; 269-327.