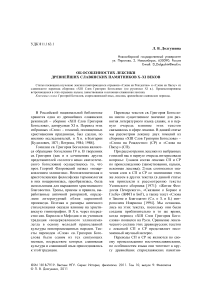Об особенностях лексики древнейших славянских памятников X-XI веков
Автор: Долгушина Людмила Васильевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 9 т.10, 2011 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению лексики повторяющихся отрывков «Слова на Рождество» и «Слова на Пасху» из славянского перевода сборника «XIII Слов Григория Богослова» (по рукописи XI в.). Проанализированы встречающиеся в этих отрывках кальки, заимствования и исконная славянская лексика.
Григорий богослов, старославянский язык, лексика, древнейшие славянские перводы
Короткий адрес: https://sciup.org/14737608
IDR: 14737608 | УДК: 811.163.1
Текст научной статьи Об особенностях лексики древнейших славянских памятников X-XI веков
В Российской национальной библиотеке хранится одна из древнейших славянских рукописей – сборник «XIII Слов Григория Богослова», датируемая XI в. Перевод этих избранных «Слов» – гомилий, посвященных христианским праздникам, был сделан, по мнению исследователей, в X в. в Болгарии [Будилович, 1871; Петрова, 1984; 1986].
Гомилии св. Григория Богослова являются образцами богословия IV в. В творениях св. Григория (как и в сочинениях других представителей «золотого века» святоотеческого богословия) осуществилось то, что прот. Георгий Флоровский назвал «воцер-ковлением эллинизма». Неоплатоническая и аристотелевская философская терминология в них воцерковилась, преобразилась, была использована для выражения христианского благовестия. Тропы, приемы и правила, выработанные античной риторикой, определили литературный облик церковной проповеди. Поэтика и размеры античного стихосложения оказали влияние на христианскую гимнографию. В X в. через посредство свв. Кирилла и Мефодия и их учеников традиция «воцерковленного эллинизма» легла в основу молодой православной культуры новопросвещенных народов. Тексты переводов «Слов» св. Григория Богослова были одним из тех связующих звеньев, посредством которых славянская культура и славянский язык присоединялись к этой традиции.
Переводы текстов св. Григория Богослова имели существенное значение для развития литературного языка славян, и в первую очередь влияние этих текстов сказывалось в сфере лексики. В данной статье мы рассмотрим лексику двух гомилий из сборника «XIII Слов Григория Богослова» – «Слова на Рождество» (СР) и «Слова на Пасху» (СП).
При рассмотрении лексики из выбранных гомилий нас в первую очередь интересовали вопросы: 1) каков состав лексики СП и СР по происхождению (заимствования, кальки, исконная лексика); 2) как соотносятся значения слов в СП и СР со значениями этих же лексем в других текстах (в данной статье мы привлекли к рассмотрению тексты Успенского сборника [1971]: «Житие Феодосия Печерского», «Сказание о Борисе и Глебе» (ЖФП и БиГ), а также текст «Слова о Законе и Благодати» (Сл. о З. и Б.) митрополита Илариона [1994]. Мы остановились на этих текстах, поскольку они были созданы приблизительно в то же время, когда перевод «XIII Слов Григория Богослова» появился на Руси. Сравнение лексического состава этих древнерусских текстов с лексикой СП и СР представляет несомненный научный интерес.
Переводы СП и СР не являются по своему происхождению восточнославянскими, по особенностям языка они тяготеют к кругу древнейших старославянских памятни-
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2011. Том 10, выпуск 9: Филология © Л. В. Долгушина, 2011
ков. Лексика и СП, и СР близка лексике древних славянских памятников X–XI вв., поэтому А. С. Будилович 1 называет памятник «болгарским» по происхождению. В то же время, как уже отмечалось, лексика рукописи неоднородна. В тексте встречаются и восточно-, и западно-болгарские черты.
Наличие в СП и СР определенной лексики обусловлено не только принадлежностью переводчиков и переписчиков той или иной переводческой школе и определенной территориально-исторической локализацией переводов; своеобразие лексического состава определяется также внутренними особенностями произведения – его содержанием, жанровой принадлежностью, стилем.
Исследователи древнейших славянских рукописей уже отмечали, что особенности словарного состава СП и СР непосредственно связаны с содержанием и принадлежностью рукописи определенному кругу литературы. Так, слово, единично встречающееся в дошедшем до нас памятнике, могло быть достаточно распространенным в языке своей эпохи. Его «редкость» может быть обусловлена принадлежностью лексемы к неотраженному в памятниках церковнославянской письменности слою лексики. Р. М. Цейтлин пишет: «Около четверти словарного состава словаря старославянских рукописей составляют гапаксы. Среди них имеются лексемы самого различного характера. Прежде всего такие, которые принадлежат к редко употребляемым словам вообще или к редко употребляемым для того круга литературных памятников, который представлен в рукописях» [Старославянский словарь, 1999. С. 12].
Совершенно очевидно, что СП и СР, будучи произведениями гомилетического характера, имели не очень много пересечений в содержании с такими текстами, как Евангелие или Деяния апостолов. И, напротив, много общего можно найти в их содержании и в содержании других произведений гомилитического характера. Поэтому неслучайно, что из всех славянских текстов, входящих в так называемый «корпус классических старославянских рукописей», Суп-расльская рукопись по содержанию ближе всего к СП и СР. Соответственно, у этих текстов шире круг общей лексики. Это не осталось не замеченным исследователями. Так, И. Фалеев писал: «Старославянский оригинал “XIII Слов Григория Назианзина” приближается ближе всего к языку Суп-расльской рукописи, а русский список с него совершен, вероятно, в юго-западной части древней Руси» [1928. С. 249].
Эти выводы подтверждаются и нашими изысканиями. Проведенное сопоставление производных и сложных слов СП и СР с соответствующей лексикой других древнейших славянских памятников показывает, что производные и сложные слова СП имеют больше всего соответствий в Супрасльской рукописи, а подобная лексика СР близка лексике Супрасльской рукописи и Синайского Евхология (мы рассматривали такие слова, как аёааТоа, аёааТпойТё, аёааТаЕ - оаёи, аёааТаЕуТёа, аТаТпёТааТеа и др.).
На основании данных, собранных Р. М. Цейтлин [1977], и данных «Старославянского словаря (по рукописям X–XI вв.)» [1999] мы выявили, что производные слова, употребленные в СП, встречаются в таких памятниках, как Клоцов сборник, Синайский Евхологий, Синайская псалтирь, Мариинское Евангелие, Енинский апостол. Особенно большое количество пересекающихся слов в СП и Супрасльской рукописи. Два из вышеперечисленных древнейших славянских памятников (Енинский апостол и Супрасльская рукопись) были написаны кириллицей и относятся к восточно-болгарской переводческой традиции, остальные памятники – глаголические.
Что касается СР, то здесь складывается аналогичная картина, но с некоторыми отличиями: лексика, употребленная в этом «Слове», встречается в Клоцовском сборнике, Синайской псалтири, Мариинском Евангелии и Енинском апостоле, а подавляющее большинство (более половины слов) – в Супрасльской рукописи и Синайском Евхологии. На долю Синайского Евхо-логия приходится около трети рассмотренных производных лексем.
Итак, и в том, и в другом «Слове» св. Григория Богослова встречается лексика как глаголических охридских памятников, так и кириллических преславских.
Характерной чертой языка СП и СР является наличие большого количества специфически книжной лексики: слов с отвлеченными значениями, производных и сложных слов, многие из которых являются кальками с греческого. Далее мы рассмотрим эту лексику в соотнесении с лексикой некоторых избранных памятников церковнославянского языка русского извода.
Кальки
В повторяющихся отрывках СП и СР количество собственно калек с греческого весьма значительно. Так, в СП мы находим 35 калек, а в СР – 42. В большинстве случаев для перевода одного и того же греческого слова в текстах СП и СР используются разные кальки. Иногда они отличаются только словообразовательными формантами: а) использованием разных приставок и суффиксов (например: qeologia - аТаТ - пёТааТеа СП 329 b ; аТаТпёТааппоаТ СР 152 b )»; б) наличием / отсутствием суффикса (ἄψυ-Хо^ - аасаиоёё СП 331 a ; аасаш-жиё СР 153 d ).
Следует сказать, что передача одного и того же слова греческого оригинала словообразовательными синонимами – явление, вообще характерное для памятников церковнославянской письменности. Оно присутствует даже в одном и том же переводе (не говоря уже о разных переводах и редакциях), например, словообразовательные синонимы ё^аТаЕуТё- , ё^аТаЕёпоаТ , ё^аТ - аЕёПоаёа и пр. в Хронике Георгия Амар-тола (Л. 61, 121, 474) [Николаев, 1986].
Чаще всего различие слов-калек в СП и СР обусловлено использованием различных славянских корней. Например: ἀσώματος аасйоаёапТй СП (334 a ), аапТёйоитиё СР (156 5 ); 6sоs^8n^ аТаТТабасиТй СП (328 b ), аТаТаёаЕТиТй СР (151 g ).
Иногда в одной из сравниваемых гомилий употреблена калька с греческого, а в другой ей соответствует исконно славянское слово или, чаще, словосочетание. Примером может служить перевод греческого сложного существительного ἀλληλοϕονία: в СП – словосочетание ай пааЕ иаТё (333d), в СР -калька паМабиаТаё-Тё- (156g).
Из общего количества калек, использованных для перевода одного и того же греческого слова (30 лексем), одинаковых калек в СП и СР мы обнаружили 11, разных – 19. Это свидетельствует о том, что для передачи греческих слов переводчики использовали не строго определенные, усто- явшиеся славянские соответствия, но всякий раз совершали собственный выбор из имеющегося в их распоряжении языкового материала, нередко и создавали необходимые слова-кальки.
На неоднородность передачи греческих сложных слов славянскими в рукописи «XIII Слов Григория Богослова» исследователи обращали внимание. Так, Л. В. Вял-кина пишет: «…для данного списка Григория Богослова характерна неоднородность в передаче сложных слов; здесь чаще, чем в других рассматриваемых памятниках (имеются в виду памятники: «Хроника Георгия Амартола», «Ефремовская кормчая», «Пчела». – Л. Д. ) обнаруживается несколько русских вариантов к данному греческому compositum» [1966. С 184].
Большая часть отмеченных в СП и СР калек встречается в древнейших славянских рукописях X–XI вв., в основном в Супрасль-ской рукописи.
Ряд калек характерен только для рассматриваемой нами рукописи «XIII Слов Григория Богослова»: па1ТабиаТаё~Тё~ СР (156 g ) (греч. allhlofonia, h ), ТТаТаиТТ - бааёитиё СП (330 5 ) (греч. aCiepainoj, 2 ), аТпоТТТбааёитиё СР (153 g ) (греч. aCiepai - noj, 2 ) (впрочем, в других памятниках отмечена лексема аТпоТбааёитиё , например, в Усп. сб.: БиГ 246.27-28), аёааТпйёТжаТёа СП (330 5 ) (греч. euarmostia, h ), ааёОёТпй - аЕёаТё- СП (331 b ) (греч. megalourgia, h ), -аёТТса^уоё- СР (152 g ) (греч. monar - xia, h ), тааопоТаТаиои сп (352 5 ) (греч. numfagwgoj, o ), ааё । Т ^ипоит й (аёапй) СП (354 b ) ( греч. omotimiaj fwnhn ), поЕТа - Тёпаоё СР (151 b ) (греч. skiagrafew ). Это характерная черта церковнославянских рукописей старшего периода: «гапаксами в древнейших рукописях представлен целый ряд специальных и книжных слов (преимущественно калек с греческого)» [Старославянский словарь, 1999. С. 12].
Некоторые кальки, употребляющиеся в СП и СР, не встречаются в 18 так называемых «старославянских» рукописях, но отмечены в других текстах. Это: аТ'9бТ - оёаиТй (аТаТТбТоёаиТй) СР (159 a ) (греч. a)ntiqeoj, 3 ), лексема встречается и в других рукописях, в частности в Ирмологии ок. 1250 г. [Срезневский, 1989. Т. 1, ч. 1.
С. 1134]; TuOaTTaOacufue СП (334 b ) (греч. a)rxetupo/j ), прилагательное отмечено в Минее 1096 г. (окт.) л. 33, Сборнике Троицкой лавры XII в. (184), Богословии Иоанна Дамаскина в переводе Иоанна, екзарха Болгарского (306) и в Изборнике 1073 г. (131) [Срезневский, 1989. Т. 2, ч. 2. С. 1764]; TOEaeaufue СР (157 а ) (греч. παράδοξος), встречается в Ирмологии ок. 1250 г., Псковской I летописи (под 6980 г.) и др. [Там же. С. 1631].
Употребление значительного количества слов-калек, несомненно, провоцировалось греческим текстом, содержащим большое количество отвлеченной лексики, сложной по своему морфемному составу и не имевшей соответствий в славянском языке. В то же время в оригинальных славянских текстах (мы привлекли, как уже упоминалось выше, тексты ЖФП, БиГ и СЛ. о З. и Б.), в которых использование калек не было обусловлено греческим оригиналом, мы находим их в весьма небольших количествах. Из тех калек, которые содержатся в повторяющихся отрывках СП и СР, в ЖФП встречаются только TOTOTeu и ТОЕпёааиТйе , в БиГ также TOTOTeu , TOEnёaaй^йё (25б.27-29).
Такое небольшое количество калек объясняется, конечно, не только оригинальным происхождением текстов, но и отличиями в плане содержания – ЖФП и БиГ не являются гомилиями, а относятся к житийной литературе.
При сравнении СП и СР с древнерусскими произведениями других жанров можно, казалось бы, ожидать большего количества пересечений лексики. Подтверждение такого рода априорного суждения можно найти и в работах исследователей, например: «Когда речь шла о предмете отвлеченном, о понятиях религиозного плана и т. д., в словаре древнерусского книжника не было собственно русских слов (или запас их был очень ограничен)» [Кандаурова, 1968. С. 149].
Но в тексте Сл. о З. и Б., где, казалось бы, речь идет «о предмете отвлеченном, о понятиях религиозного плана» и где поэтому мы вправе ожидать большего количества специфически книжной лексики, в том числе и калек, последних мы находим немногим больше, чем в текстах житийного содержания (ЖФП и БиГ). Из слов-калек, встречающихся в повторяющихся отрывках СП и СР, в Сл. о З. и Б., встретилось только ёaTёTnёuжa^ё~, TOEaoa^a, ^йёTaEёTё^aё-.
Всего же слов, которые можно с достаточной определенностью назвать кальками, в Сл. о З. и Б. около 30, например: aёaaT - nёTaa^ ё- , -зёШбййТй , ATaT OT аёоа , бOёnOTё^ - аёайё . При достаточно большом объеме произведения это не так много. Особенно в сравнении с СР, где на 9 листах рукописи (объем повторяющихся отрывков СР и СП) 42 кальки. Кроме того, поскольку Сл. о З . и Б. не является переводным произведением, ряд славянских двукорневых слов, встречающихся в тексте, нельзя с полной уверенностью определить как кальки. Это могут быть слова, появившиеся не в результате передачи на славянский язык греческих терминов, а созданные самим автором по определенной словообразовательной модели и под влиянием других произведений соответствующего жанра, поскольку «словообразовательные модели композита были исконно присущи славянскому языку и... отнюдь не следует в каждом образовании подобного типа видеть обязательно прямой сколок с греческого оригинала» [Львов, 1975. С. 32].
Итак, логично сделать вывод, что большое количество калек, содержащихся в СП и СР, обусловлено не столько богословским содержанием, сколько переводным характером текстов. Значительное количество подобной лексики характерно для всего круга старейших памятников церковнославянского языка. Доля слов, заимствованных из греческого языка и созданных путем калькирования, в лексическом составе памятников древнейшей славянской письменности доходит, по оценкам ученых, до 20 % [Там же. С. 32].
Заимствования
В текстах СП и СР содержатся следующие грецизмы, общие для этих гомилий (табл. 1).
Кроме того, в тексте СР встречаются грецизмы, которым в СП соответствуют славянские слова (табл. 2).
Итак, в тексте СП присутствует 6 заимствований из греческого языка, в тексте СР – 12. Следует отметить, что общее количество грецизмов в оригинальных древнерусских памятниках значительно меньше,
Грецизмы, общие для «Слова на Пасху» и «Слова на Рождество»
Таблица 1
|
Греческая лексема |
СП |
СР |
|
a)/ggeloj, o( |
аТааёй 331 d |
атаёй 154 g |
|
a)ggelikoj, 3 |
аТбёйпёйё (аТааёйпёйё) 330 a |
аТйёйпёйё (аТааёйпёйё) 153 a |
|
dia/boloj, o( |
аёуаТёй 333 a |
аёуаТёй 155 d |
|
draxmh/, h( |
абаай! а 352 g |
абаай!а 158 a |
|
e)llhni/zw |
АёёТйпоаТааоё 329 g |
АёёТйпоаТааоё 152 g |
|
Xristo/j |
0й9(0бёпоТпй) 352 a |
0й9(0бёпоТпй) 157 g |
Различия в передаче греческих слов в «Слове на Пасху» и «Слове на Рождество»
Таблица 2
|
Греческая лексема |
СП |
СР |
|
a)h/r, o( |
айсаибй 333 d |
аабй 156 b |
|
a)krobusti/a, h( |
ёТТй^йТау Тёйой 354 g |
аёбТайпоаё- 159 d |
|
ei)dwlolatri/a, h( |
ёи!ёбТ!й жйбаТёа |
ёаТёТпёижаТ ё~ |
|
ei)kwn, h( |
Табасй 334 b Табасй 335 a |
ёёТТа 156 d Табасй 157 b |
|
)Ioudai=oj |
жёаТаа 354 a |
ёоааё 159 g |
|
Le/ntion, to/ |
ТТТуаа 352 d |
ёаТоёё 158 b |
чем в СР и даже чем в СП (в последнем их в два раза меньше, чем в СР).
Из грецизмов, выявленных нами в повторяющихся отрывках СП и СР, в текстах ЖФП, БиГ и Сл. о З. и Б. в основном встречаются те, которые составляют для СП и СР их «общее достояние» и вообще являются заимствованиями, наиболее распространенными в церковнославянских памятниках. Это следующие лексемы: аТааёй (Сл. о З. и Б. 78; ЖФП 40в.30; БиГ 18г.20), аТааёйпёйё (ЖФП 46г.24-25; БиГ 13в.10), 0й9 (ОбёпоТпй) (Сл. о З. и Б.; ЖФП 29в.21; БиГ 12а.28, 18в.5), ёёТТа (Сл. о З. и Б. 608, ЖФП 48а.24; БиГ 19а.28), аёуаТёй (ЖФП 66в.26-27; БиГ 10в.8), ёоааё (Сл. о З. и Б. 123); грецизмом по происхождению является и первая часть сложного слова ёаТ ёТпёи$аТё~ (Сл. о З. и Б. 831). В том же тексте встречается калька, созданная при помощи только славянских корней: аЕПТпёиааТё- (Сл. о З. и Б. 603). Таким образом, достаточно явно очерчивается круг заимствований, которые являлись наи- более употребительными в церковнославянском языке.
Объем употребляющихся в том или ином памятнике грецизмов, несомненно, зависит от содержания произведения. Так, в Сл. о З. и Б., в силу особенностей его содержания, грецизмов больше, чем в ЖФП и БиГ. Всего в тексте Сл. о З. и Б. мы отметили 22 грецизма (включая производные слова, такие как аб - баТааёйпёйё , ёаТёипёйё ). Это еще раз подтверждает, что «уже в XI веке русский переводчик (в нашем случае русский автор. – Л. Д. ) может использовать грецизмы не только для передачи соответствующего греческого текста, но и вне зависимости от греческого оригинала» [Успенский, 1983. С. 22].
Исконная лексика – лексические инварианты
Что касается исконной лексики, то общий словарный фонд повторяющихся от- рывков СП и СР и древнерусских по происхождению памятников достаточно велик. Количество лексики, общей для СП и ЖФП, -289 единиц, СР и ЖФП - 282, СП и БиГ -248, СР и БиГ - 230 (учитываются и полнозначные, и неполнозначные слова). В целом около 50 % исконной славянской лексики, употребляющейся в СП и СР, встречается и в ЖФП, и БиГ.
При изучении этой лексики можно выделить две группы слов, не равные по объему. Одну группу составляют лексические варианты. Варьирование лексических единиц -характерное для древнейших славянских памятников явление. Лексические варианты используются в одних и тех же контекстах, несут одинаковую смысловую нагрузку. В переводных текстах лексическим вариантам соответствует одно слово оригинала. Однако «и в условиях семантической зыбкости и неустойчивости, существование которых для древнеславянских текстов нельзя не допускать, многие лексические элементы общелитературного языка уже были скреплены с определенными значениями» [Ходова, 1968. С. 96]. Для таких слов можно было бы предложить определение лексические инварианты по аналогии с термином лексические варианты слова . «Лексические инварианты» составляют значительно меньшую по объему группу лексики древнейших славянских памятников. Это слова, употреблявшиеся для перевода строго определенных греческих слов; слова с точными, установившимися значениями.
В привлеченных нами текстах были выявлены следующие лексические инварианты: aitia, h aefa СП (333 g ), СР (156 b ), ЖФП (51б.7), БиГ (9г.27); aiwn, o аЕёи СП (329 a ), СР (152 Ь ), ЖФП (67в.6), БиГ (8б.19), Сл. о З. и Б. (45); aiwnioj, 2,3 aE^ufue СП (329 a ), СР (152, b ), ЖФП (33г.24-25), БиГ (16а.2), Сл. о З. и Б. (20); aihqeia h Henoefa СП (328 a ), СР (151 b ), Сл. о З. и Б. (38); amartia, h абЕби СП (353 g ), СР (156 a ), ЖФП (49б.3), БиГ (13а.23), Сл. о З. и Б. (286); boulomai бшк СП (330 b ), СР (153 a ), ЖФП (55б.1), БиГ (27б.31); diaforoj, 2 басёё^йшё СП (333 g ), СР (156 b ), ЖФП (48в.20-21), БиГ (8б.13-14); doCaZw пёааёоё СП (332 a ), СР (154 5 ), ЖФП (39г.28), БиГ (19г.30-31), Сл. о З. и Б.
(418); entolh, h саТТаЕай СП (332 g ), СР (155 b ), ЖФП (36в.31), Сл. о З. и Б. (425); eCousia, h аёапой СП (353 d ), СР (159 a ), ЖФП (44в.9), БиГ (10в.20), Сл. о З. и Б. (425); epilanqanomi саайоё СП (333 b ), СР (155 d ), ЖФП (23а.25), БиГ (8г.16-17); ergon, to аЕёТ СП (330 a ), СР (153 a ), ЖФП (26в.28), БиГ (13а.2), Сл. о З. и Б. (308); esxatoj, 3 ТТпёЕайТёё СП (334 a ), СР (156 g ), ЖФП (26в.10); eufrosunh, h ' аапаёё~„ СП (352 d ), СР (158 a ), ЖФП (50в.30), БиГ (25г.6-7), Сл. о З. и Б. (114); Qeoj, o АТаи СП (327 g ), СР (151 a ), ЖФП (31в.3), БиГ (15б.3), Сл. о З. и Б. (9); kaloj, 3 аТабйё СП (330 b ), СР (153 b ), ЖФП (50б.5-6), БиГ (18а.24-25), Сл. о З. и Б. (766); kalwj аТабЕ СП (330 5 ), СР (153 d ), БиГ (20б.17); megaj ааёёёйё СП (331 5 ), СР (154 g ), ЖФП (26в.17), БиГ (17б.4), Сл. о З. и Б. (36); musthrion, to ОаёТа СП (332 b ), СР (155 a ), ЖФП (62б.32); no/oj, o( , nou=j, o( uiu СП (327 a ; 329 a ), СР (151 b ; 152 a ), ЖФП (32б.7), БиГ (18б.12); nun Tula СП (329 b ), СР (152 b ), ЖФП (26в.30), БиГ (8в.5), Сл. о З. и Б. (Молитва 140); oratoj, 3 аёаё1йё СП (331 5 ), СР (154 g ), ЖФП (38а.15-16), БиГ (23г.7), Сл. о З. и Б. (689); paqoj, to пОбапой СП (352 g ), СР (158 a ), БиГ (8б.21), Сл. о З. и Б. (684); poiew ОаТбёоё СП (352 d ), СР (158 a ), ЖФП (28б.6), БиГ (11а.25), Сл. о З. и Б. (695); proskunhthj, o ТТёёТТ Тёёи СП (331 5 ), СР (154 g ), ЖФП (38б.3-4); proslhyij, h ТбОуоёа СП (334 g ), СР (157 a ), ЖФП (60в.31), БиГ (20г.25-26). В текстах СП и СР эти славянские слова всегда используются для перевода определенных греческих лексем; оригинальные славянские памятники также содержат эти лексемы и в тех же значениях. Характерно, что «инвариантная» лексика СП и СР является «инвариантной» и в оригинальных памятниках, т. е. в определенных контекстах и в определенных значениях употребляются только эти лексемы, не вступающие в вариантные отношения с другими.
Проанализированный в данной статье языковой материал может быть использован для дальнейшего изучения лексики древнейших славянских переводов.