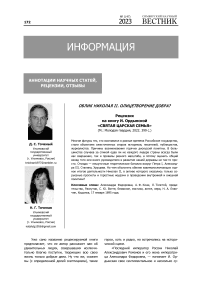Облик Николая II. Олицетворение добра? Рецензия на книгу И. Ордынской «Святая царская семья» (М.: Молодая гвардия, 2022. 399 с.)
Автор: Д.С. Точеный, Н.Г. Точеная
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Аннотации научных статей, рецензии, отзывы
Статья в выпуске: 1 (47), 2023 года.
Бесплатный доступ
Многие фигуры тех, кто возглавлял в разные времена Российское государство, стали объектами ожесточенных споров историков, писателей, публицистов, журналистов. Причины возникновения горячих дискуссий понятны. В большинстве случаев за спиной едва ли не каждого лидера страны всегда были как свершения, так и провалы разного масштаба, а потому оценить общий вклад того или иного руководителя в развитие нашей державы не так-то просто. Отсюда — нешуточные теоретические баталии вокруг Петра I, Александра III, Сталина, Хрущева. Но чем объяснить обилие взаимоисключающих оценок итогов деятельности Николая II, в активе которого оказались только серьезные просчеты и горестные неудачи в проведении внутренней и внешней политики?
Александра Федоровна, А. Ф. Кони, Л. Толстой, предательство, Распутин, С. Ю. Витте, безволие, мистика, ангел, вера, Н. А. Епанчин, Ходынка, 17 января 1895 года
Короткий адрес: https://sciup.org/14127589
IDR: 14127589
Текст научной статьи Облик Николая II. Олицетворение добра? Рецензия на книгу И. Ордынской «Святая царская семья» (М.: Молодая гвардия, 2022. 399 с.)
Уже само название рецензируемой книги предполагает, что ее автор расскажет нам об удивительных людях, совершавших исключительно благие поступки, творивших всю свою жизнь только добрые дела. Ну что же, скажем мы (с определенной долей скептицизма), такие герои, хоть и редко, но встречались на исторической сцене.
«Последний император России Николай Александрович Романов и его жена императрица Александра Федоровна, — начинает И. Ордынская свое сентиментальное и несколько су- сальное повествование, — прожили в браке без малого 24 года. Царская чета была уникальна тем, что влюбленные друг в друга Августейшие супруги смогли пожениться, несмотря на все сложности, которые им пришлось преодолеть… В основу их семьи легло глубокое нежное чувство: оно объединяло их в одно целое, и они смогли пронести его через всю жизнь».
И наслаждаться бы Николаю II и его жене вечным счастьем и заслуженным покоем, но, горестно вздохнем (и не раз!), произошло нечто необъяснимое и непонятное: «Долгое время последняя Царская семья Дома Романовых, основой которого стала любовь и глубокая привязанность Августейших супругов, — продолжает И. Ордынская, — подвергалась циничной и предвзятой критике как со стороны «просвещенного общества», так и ближайших родственников. Все личные качества императора и императрицы рассматривались в отрицательном ключе… Император, искренне любивший Россию, жизнь положивший на алтарь служения Отечеству, отдавший все силы для его экономического процветания, заботившийся о военной мощи страны, как человек верующий, как «отец нации», действительно готов был пожертвовать всем для своих подданных. Однако сколько бы он ни отдавал себя России, подданные, как неблагодарные дети, не считали нужным ценить его заслуги. В еще более горьком положении оказалась императрица. Александра Федоровна, как человек искренний, верующий, логически мыслящий, приняла Россию как свою новую Родину, а народ — ее как своих детей. Она не сомневалась, что после венчания на царство стала матерью русского народа. Но он не только не был благодарен, а ненавидел ее» (с. 6).
Действительно, и широкие народные массы, и представители имущих слоев населения, и лидеры интеллектуальной элиты России явно не жаловали венценосных супругов. Вот какими красками нарисовал их душевный портрет А. Ф. Кони, «талантливый юрист и литератор, выдающийся судебный оратор, почетный академик Петербургской АН, член Государственного совета, имевший репутацию строгого, мудрого, неподкупного служителя закона» [9, с. 345]: «Мои личные беседы с царем убеждают меня в том, что это человек, несомненно, умный, если только не считать высшим развитием разума как способность обнимать всю совокупность явлений и условий, а не развивать только свою мысль. Точно так же он не был ограничен и необразован. В беседе он проявлял такой интерес к литературе, искусству и даже науке, что встречи с ним, как с полковником Романовым, в повседневной жизни могли быть не лишены живого интереса.
Я помню, как дрогнул от чувства и сдержанных слез его голос, когда, говоря свою речь в 1906 году перед открытием Государственной Думы в тронной зале Зимнего дворца, он упомянул о своем сыне. Но поручение надзора за воспитанием ребенка какому-то матросу под наблюдением психопатической жены и отсутствие заботы о воспитании дочерей заставляют сомневаться в серьёзном отношении его к обязанностям отца» [6, с. 377—378]. Ирония и тонкий сарказм А. Ф. Кони, который он использует, характеризуя супругов Романовых, конечно, уместен. Столь же правомерен и обличительный пафос Анатолия Федоровича.
«Мне думается, — ставит безошибочный диагноз этот редкий знаток государственной и правовой системы России, — что искать объяснения многого, приведшего в конце концов нашу империю к гибели и позору, надо не в умственных способностях Николая II, а в отсутствии у него сердца, бросающемся в глаза в целом ряде поступков… Достаточно вспомнить равнодушное отношение царя к поступку генерала Грибского, утопившего в 1900 году в Благовещенске-на-Амуре пять тысяч мирного китайского населения, трупы которых затрудняли пароходное сообщение целый день; или равнодушное попустительство еврейских погромов при Плеве; или жестокое отношение к ссылаемым в Сибирь духоборам, где они на севере обрекались, как вегетарианцы, на голодную смерть, о чем пламенно писал ему Лев Толстой. Нельзя не вспомнить одобрения им гнусных зверств мерзавца — харьковского губернатора И. М. Оболенского, при «усмирении» аграрных беспорядков в 1902 году… Наконец, — и это очень характерно — когда старый Государственный совет постановил обратить внимание Государя на своевременность отмены телесных наказаний, последовал отказ и резолюция: «Я сам знаю, когда это надо сделать!»
Ведущими чертами императора, подчеркивает А. Ф. Кони, являлись «трусость и предательство». Они «прошли красной нитью через все его царствование. Когда начинала шуметь буря общественного негодования и народных беспорядков, он начинал уступать постепенно и непоследовательно… Чуждаясь независимых людей, замыкаясь от них в узком семейном кругу, занятом спиритизмом и гаданьями, смотря на своих министров как на простых приказчиков, посвящая некоторые досужие часы стрелянию ворон в Цар- ском Селе, скупо и редко жертвуя из своих личных средств во время народных бедствий, ничего не создавая для просвещения народа, поддерживая церковно-приходские школы и одарив Россию изобилием мощей, он жил, окруженный сетью охраны, под защитою со звероподобными и наглыми мордами. Отсутствие сердечности и взгляд на себя, как на провиденциального помазанника Божьего, вызывали в нем приливы горделивой самоуверенности, заставлявшей его ставить в ничто советы и предостережения немногих честных людей, его окружавших или с ним беседовавших» [6, с. 381].
Аудиенции, данные Николаем II, не приносили А. Ф. Кони положительных эмоций. «Обращаясь к непосредственным личным воспоминаниям, — заключает он, — я должен сказать, что никогда не выносил из кабинета русского царя сколько-нибудь удовлетворительного впечатления. Несмотря на любезность и ласковый взгляд газели, чувствовалось, что цена этой приветливости очень небольшая и, главное, неустойчивая». Почти такую же реакцию у Анатолия Федоровича вызывали «высокомилостивые приемы» у жены императора: «Нельзя сказать, что внешнее впечатление, производимое ею, было благоприятно. Несмотря на ее чудные волосы, тяжелой короной лежавшие на ее голове, и большие темно-синие глаза под длинными ресницами, в ее наружности было что-то холодное и даже отталкивающее. Горделивая поза сменялась неловким подгибанием ног, похожим на книксен при приветствии или прощанье. Лицо при разговоре или усталости покрывалось красными пятнами, руки были мясисты и красны.
Но если мои личные воспоминания, относящиеся к периоду с 1898 до 1904 года, в общем и благоприятны, то я не могу того же сказать о ее деятельности в делах общегосударственных… Она презрительно и высокомерно относилась к просвещенной части русского общества, к Государственной Думе и даже к членам своей фамилии, пытавшимся указать ей на надвигающуюся опасность. Ей нельзя простить тех властолюбия и горделивой веры в свою непогрешимость, которые она обнаружила, подчиняя себе мысль, волю и необходимую предусмотрительность своего супруга. Она не любила русский народ, признавая в нем хорошим лишь монашество и отшельничество; она презирала его и ставила ниже известных ей европейских народов. Еще более нельзя ей простить и даже понять введение дочерей в круг влияния Распутина. Опубликованные в последнее время письма несчастных девушек к наглому и развратному «старцу» и их имена на иконе, оказавшейся на шее его трупа, показывают, в какую бездну внутреннего самообмана, ханжества и кликушества и внешнего позора огласки и двусмысленных комментариев повергла своих дочерей «Даршматская принцесса», ставшая русской царицей и почему-то воображавшая, что ее обожает презираемый ею русский народ...» [6, с. 386—388]. Да, богатству и глубине мыслей, высказанных А. Ф. Кони в очерке «Николай II (Воспоминание)», можно поражаться.
Примечательно, что суровый «приговор», вынесенный Анатолием Федоровичем образу жизни и деятельности царской четы, поддержал, едва ли не безоговорочно, С. Ю. Витте, превосходивший по уму, как считает историк А. В. Игнатьев, всех участников событий на российской политической сцене в конце XIX — начале XX века [4, с. 7].
Перелистаем мемуары Сергея Юльевича, видного государственного деятеля, председателя Совета Министров, талантливого реформатора и блестящего дипломата. Его характеристики людей, с которыми он общался, отличались хлесткостью, жесткостью и, главное, объективностью. И как контрастируют его суждения с выводами автора рецензируемой книги…
«С 1891 года закончивший образование 23-летний наследник престола, — с восхищением пишет И. Ордынская, — стал настоящим помощником в государственных делах для своего отца-императора… По мнению современников, было мало не только в России, но и в мире таких ярких, талантливых и хорошо образованных молодых людей в высшем свете и правящих домах, как наследник российского престола. Цесаревич Николай Александрович был прекрасно образован: владел в совершенстве несколькими иностранными языками — английским, французским, немецким, отлично знал русскую и мировую историю и географию, глубоко разбирался в экономике и военном деле. Будущий царь был широко эрудированным человеком: любил литературу, театр, музыку, прекрасно рисовал» (с. 16).
Витте С. Ю., не один год работавший бок о бок с последним императором, был куда более осторожен в оценке его достоинств и совершенств: «Я редко встречал так хорошо воспитанного человека. Воспитание это скрывает все его недостатки. В его характере немало черт Александра I (мистика, хитрость и даже коварство), но, конечно, нет образования Александра I, который по своему времени был одним из образованнейших русских людей, а император Николай II по нашему времени обладает средним образованием гвардейского полковника хорошего семейства… Ясно, как Божий день, что император Николай II, вступивши на престол совсем неожиданно, представляя собою человека доброго, далеко не глупого, но неглубокого, слабовольного, не был создан, чтобы быть императором вообще, а неограниченным императором такой империи, как Россия, в особенности. Основные его качества — любезность, когда он этого хотел, хитрость и полная бесхарактерность» [2, с. 597].
Столь же разительно отличны отзывы, которые дали жене Николая II И. Ордынская и С. Ю. Витте. Само собой разумеется, что автор рецензируемой работы аттестовала облик и поведение Александры Федоровны в самых розовых, идиллических тонах, не замечая у нее никаких недостатков. Будущая российская императрица (в детстве именуемая Алекс Дармштадтской) «росла в семье, окруженной родительской любовью, особенно она обожала свою мать. Алекс любила вся семья. Домашние звали ее «солнышко», это прозвище она получила за свой прекрасный, добрый, веселый нрав. Девочка была послушной, уравновешенной, аккуратной и обаятельной от природы… Поэтому живя в королевских резиденциях у бабушки принцесса Алекс тем не менее не была приучена к роскоши. Жизнь была устроена скромно. Никаких излишеств, никаких дорогих вещей. С детства привыкла обходиться без слуг. Ежедневное питание тоже было достаточно скудным.
Принцесса Алекс получила прекрасное домашнее образование. Любила литературу и музыку, сама отлично играла на рояле и пела, практически профессионально, замечательно рисовала, особенно акварелью. Очень много читала, и не только художественную литературу, но и религиозную и научную, особенно ее привлекала философия. Она защитила диссертацию по философии в Оксфордском университете» (с. 24—25). Словом, для И. Ордынцевой Александра Федоровна — ангел во плоти, а вот на страницах мемуаров С. Ю. Витте императрица предстает крайне неприятной и даже зловещей фигурой. Он выражает глубокое убеждение в том, что ее мистицизм и злая воля стали причиной трагических бед для населения России.
В связи с выходом замуж за Николая II, пояснил в 1914 году Сергей Юльевич, этой немецкой принцессе пришлось протестантскую религию поменять на православную: «Вообще это тяжело, а при ее узком и упрямом характере это было, вероятно, особенно тяжело. Как ни гово- рите, а если мы, и в особенности русские люди, хулим субъекта, переменяющего религию по убеждению, то ведь не особенно красивый подвиг переменить таковую из-за благ мирских. Не из-за чистоты и возвышенности православия принцесса Alix решилась переменить свою веру. Ведь о православии она имела такое же представление, как младенец о теории пертурбации небесных тел… С ее тупым, эгоистическим характером и узким мировоззрением, в чаду всей роскоши русского двора, довольно естественно, что она впала всеми фибрами своего «я» в то, что я называю православным язычеством, то есть поклонение формам без сознания духа. При такой психологии, окруженной низкопоклонными лакеями и интриганами, легко впасть во всякие заблуждения. На такой почве появилась всякого рода мистика» [2, с. 595].
Если бы Николай II, далее размышляет С. Ю. Витте, будучи человеком безвольным, сочетался браком с умной и возвышенной особой, то его недостатки могли бы в значительной степени уравновеситься ее полезными качествами: «К сожалению, этого не случилось. Он женился на хорошей женщине, но на женщине совсем ненормальной и забравшей его в руки… Может быть, она была бы хорошей советчицей какого-либо супруга — немецкого князька, но она является пагубнейшей советчицей самодержавного владыки Российской империи. Она приносит несчастье себе, ему и всей России. Если бы принцесса Alix сделалась в свое время какой-нибудь немецкой княгиней или графиней… [2, с. 596—597].
Ордынская И. питает очевидную слабость к семье последнего царя. Скажем больше, к каждому из ее членов — пожилому, молодому, только что появившемуся на свет — она относится благоговейно, коленопреклонённо: «Император Николай II Александрович, императрица Александра Федоровна, великие княжны Ольга Николаевна, Татьяна Николаевна, Мария Николаевна и Анастасия Николаевна, наследник цесаревич Алексей Николаевич — все они замечательные люди, которыми Россия может гордиться» (с. 8). И неужели никто из них не совершил ни одного проступка, ни разу не ошибся? В это нельзя поверить. Во всяком случае, исторический опыт говорит о том, что такого быть не может. Вспомним хотя бы о Великой и Бессмертной Лениниане, согласно которой все члены семьи В. И. Ульянова со дня рождения и до смерти творили только благие дела и совершали необыкновенные деяния во имя счастья трудового народа.
Вопросы о возможных промахах, ошибках и заблуждениях «Святого» семейства Романовых И. Ордынская решает очень просто: она о них умалчивает. Так, важную, если не определяющую роль в судьбах и самого императора, и ведомого Российского государства сыграло событие, произошедшее 17 января 1895 года. В этот день Николай II, принимая в Зимнем дворце представителей от земства и городов, сказал: «Мне известно, что последнее время слышались в некоторых земских собраниях голоса людей, увлекающихся бессмысленными мечтаниями об участии представителей земства в делах внутреннего управления; пусть все знают, что я, посвящая все свои силы благу народному, буду охранять начала самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял его мой незабвенный покойный Родитель». Эта речь, отмечают авторы учебного пособия по истории для педагогических вузов (под ред. А. Н. Сахарова), «произвела сильное впечатление в России. Одни приветствовали твердое слово государя, другие же, и таких было немало, выражали неудовольствие и даже возмущение… К началу XX века критическое отношение к самодержавию и к самодержцу стало признаком хорошего тона в кругах так называемого образованного общества, где пользовались популярностью либеральные идеи» [5, с. 481].
Как ни странно, но И. Ордынская в своей книге не сообщает ни о факте выступления Николая II с этой речью, ни тем более о бурной реакции на нее не только буржуазных кругов, но и представителей аристократии. Например, полковник Н. А. Епанчин подчеркнул: «На приеме (17 января 1895 года) произошел неприятный, тягостный эпизод. Надо отметить, что Государь свободно говорил речи, не прибегая к записи; он в таких случаях вполне владел собой, но в этот раз, вероятно, особая волнующая тожественность приема повлияла на настроение Государя, и в его речь вкралась ошибка. Желая сказать, чтобы не питали «беспочвенных мечтаний», он сказал «бессмысленных мечтаний», что, разумеется, произвело крайне гнетущее впечатление, дало пищу разговорам, пересудам по всей России и во всем мире. Разумеется, левые и революционеры усилили пропаганду, и все это причинило много вреда Государю и России.
Я нахожу, что даже выражение «беспочвенные мечтания» совершенно неуместно на приеме представителей, являвшихся принести Государю и его молодой супруге поздравления от лица всей России. Было бы достаточно отблагодарить их, обласкать, а не пользоваться именно этим случаем для объявления о пути, по которому новый монарх намерен вести Россию, это было бы проще и тактичнее, а волю свою объявить в манифесте 29 апреля 1881 года, что он будет править самодержавной властью.
Как я слышал, проект речи Государя составил Победоносцев, и если это действительно так, то он еще раз оказал дурную услугу царю и России» [3, с. 226—227].
Бесславная, бестактная, до известной степени скандальная речь Николая II не просто подмочила его репутацию, она серьезно подорвала авторитет последнего императора. Отказ от возможности построения демократического государства, заявление (причем в грубой, беспардонной форме) о сохранении традиционных самодержавных устоев знаменовали начало процесса банкротства отжившего режима. Надежды буржуазии, интеллигенции и части аристократии на конституционные преобразования рухнули. Мы уж не говорим о росте революционной агитации в рабочем классе и крестьянстве. 15 марта 1895 года германский посол фон Вердер с присущей ему тонкой наблюдательностью и беспристрастностью зафиксировал в своем дневнике: «В начале царствования им (Императором) увлеклись, превозносили все его действия и его речи до небес. Как теперь все изменилось! Начало перемене положила неожиданно резкая речь Императора… По всей России она резко критикуется» [7, с. 47].
Фиаско 17 января 1895 года стало убедительным доказательством неспособности Николая II решать сложные политические проблемы, вставшие перед Россией. Такое же отсутствие государственного ума он демонстрировал и в дальнейшем. Достаточно вспомнить Ходынку, расстрел демонстрации 9 января 1905 года, бесконечные конфликты с выдающимися государственными деятелями и ближайшими родственниками, глупое собственное назначение в 1915 году на пост главнокомандующего Российской армией и др. А ведь все это шаги к драме, к трагической развязке. Но перечисленные сюжеты И. Ордынская старается обойти стороной. И не всегда обоснованно.
Хорошо известно, какую важную роль сыграл в жизни царской семьи Г. Распутин. Историки спорят на эту тему не одно десятилетие. Кто же он? Демон [8] или ангел [1]? Хотелось бы узнать мотивированное мнение автора рецензируемой книги на этот счет. Но, увы. Она отделывается одной, ничего не значащей фразой: «31 декабря пришла весть об убийстве Григория Распутина» (c. 369).
Ордынская И. в «Предисловии» к своей книге высказала абсолютно правильное соображение: «Святая царская семья достойна того, чтобы в ее жизни была посвящена реальная история» (с. 8). Мы полностью согласны с ней. Однако рецензируемая книга никак не напоминает взвешенного описания радостей и печалей последних представителей династии Романовых. В ней нет анализа, серьезного и обстоятельного, жизненного пути царя, его жены, их детей. Все они предельно идеализированы.
Вместо реалистичного повествования читатели получили настоящую оду — только не стихотворную, а прозаическую. Главные действующие лица ежедневно — с раннего утра и до позднего вечера — совершают подвиги, творят добро, заботятся о своем любимом народе. Но что они получают в ответ? Широкие массы, интеллигенты, «либералы проклятые», революци- онеры, даже многие аристократы сочиняют о Романовых гнусные небылицы, упрекают их в измене Родине, в служении интересам Германии. «Немка и ее дети, — возмущается от всей души И. Ордынская, — так называли в неблагодарном народе императрицу и цесаревен с цесаревичем» (с. 7).
Закономерен вопрос: «Отчего же не только низы, но и верхи в России проявили такую неблагодарность по отношению к венценосной чете, почему не увидели никаких положительных сторон у нее, по какой причине окрестили Николая II «Кровавым»? Ведь тот же народ назвал Петра I «Великим», Александра II — «Освободителем», Александра III — «Миротворцем». Может быть, автору рецензируемой работы надо подумать о доле персональной вины последнего царя за развал Российской империи и гибель своей семьи?
Список литературы Облик Николая II. Олицетворение добра? Рецензия на книгу И. Ордынской «Святая царская семья» (М.: Молодая гвардия, 2022. 399 с.)
- Боханов А. Н. Григорий Распутин. Авантюрист или святой старец? / А. Н. Боханов. — Москва: Вече, 2012. — 288 с.
- Витте С. Ю. Избранные воспоминания / С. Ю. Витте. — Москва: Мысль, 1911 с. — 719 с.
- Епанчин Н. А. На службе трех императоров / Н. А. Епанчин. — Москва: Наше наследие, 1996. — 563 с.
- Игнатьев А. В. С. Ю. Витте — дипломат / А. В. Игнатьев. — Москва: Международные отношения, 1989. — 336 с.
- История России. С начала XVIII до конца XIX века. — Москва: АСТ, 2001. — 543 с.
- Кони А. Ф. Собр. соч.: в 8 т. / А. Ф. Кони. — Москва: Юридическая литература, 1996. — Т. 2. — 503 с.
- Ольденбург С. С. Царствование императора Николая II / С. С. Ольденбург. — Москва: Терра, 1992. — 640 с.
- Радзинский Э. Загадки жизни и смерти / Э. Радзинский. — Москва: Вагриус, 2003. — 1247 с.
- Хроника России. XX век. Календарь событий. — Москва: Слово, 2002. — 1104 с.