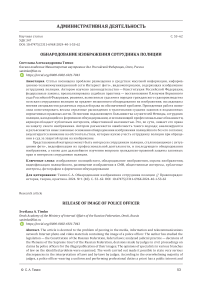Обнародование изображения сотрудника полиции
Автор: Тимко С.А.
Журнал: Правопорядок: история, теория, практика @legal-order
Рубрика: Административная деятельность
Статья в выпуске: 1 (40), 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме размещения в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети Интернет фото-, видеоматериалов, содержащих изображение сотрудника полиции. Автором изучено законодательство - Конституция Российской Федерации, федеральные законы; проанализирована судебная практика - постановления Пленумов Верховного суда Российской Федерации, решения, вынесенные судьями в порядке гражданского судопроизводства по искам сотрудников полиции на предмет незаконного обнародования их изображения; исследованы мнения специалистов различных отраслей права по обозначенной проблеме. Проведенная работа позволила констатировать весьма серьезные расхождения в трактовании судьями законов и подзаконных нормативных правовых актов. По мнению подавляющего большинства служителей Фемиды, сотрудник полиции, находящийся в форменном обмундировании, и исполняющий профессиональные обязанности, априори обладает публичным интересом, общественной значимостью. Это, по сути, лишает его права на защиту своего изображения. Автором разъясняется ошибочность такого подхода; анализируются и разъясняются иные законные основания обнародования изображения полицейского без его согласия; акцентируется внимание на обстоятельствах, которые нужно учесть сотруднику полиции при обращении в суд за защитой права на изображение. Представленный материал может быть интересен сотрудникам полиции, сталкивающимся с ситуациями фото-, видеофиксации их профессиональной деятельности, и последующего обнародования изображения, а также для дальнейшего изучения вопросов гражданско-правовой защиты законных прав и интересов сотрудников полиции.
Изображение полицейского, обнародование изображения, охрана изображения, видеофиксация полицейского, размещение изображения в сми, общественные интересы, публичные интересы, фотографии в форменном обмундировании
Короткий адрес: https://sciup.org/14129568
IDR: 14129568 | УДК: 347 | DOI: 10.47475/2311-696X-2024-40-1-53-62
Текст научной статьи Обнародование изображения сотрудника полиции
Цифровая трансформация современного общества привела к тому, что изображение человека в фото-, видеоформате активно используется не только им самим, но и другими лицами.
Специфика деятельности сотрудников полиции, предусматривающая возможность применения физической силы, ограничения прав граждан, осуществление контроля, надзора за гражданами и т. п., обуславливает возникновение конфликтных ситуаций между полицейскими и гражданами, фото-, видеофиксацию таких ситуаций последними и размещение этих материалов в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (далее — сеть Интернет). В статье мы рассмотрели вопросы законодательного регулирования права полицейского на охрану изображения, а также особенности российской правоприменительной практики по указанному вопросу.
Описание исследования
Приступая к анализу заявленной проблемы, укажем, что действия граждан по фото-, видеофиксации полицейских вполне законны. Это является их конституционным правом, поскольку ч. 4 ст. 29 Конституции РФ говорит о том, что «каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом»1. Кроме того, ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» предусмотрено, что «деятельность полиции открыта для общества в той мере, в какой это не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве, о производстве по делам об административных правонарушениях, об оперативно-розыскной деятельности, о защите государственной и иной охраняемой законом тайны,
1 Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования а также не нарушает прав граждан, общественных объединений и организаций»2.
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»3 в ст. 8 указывает, что граждане и организации вправе осуществлять поиск и получение сведений в любых формах и из любых источников при соблюдении требований, установленных этим Федеральным законом и другими федеральными законами. Не может быть ограничен доступ к информации о деятельности государственных органов (за исключением сведений, составляющих государственную или служебную тайну).
Указ Президента РФ от 31 декабря 1993 г. № 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию» зафиксировал принцип информационной открытости деятельности государственных органов, организаций и предприятий, общественных объединений, должностных лиц, что выражается: в доступности для граждан информации, представляющей общественный интерес или затрагивающей личные интересы граждан; в осуществлении гражданами контроля за деятельностью государственных органов, организаций и предприятий, общественных объединений, должностных лиц и принимаемыми ими решениями, связанными с соблюдением, охраной и защитой прав и законных интересов граждан4.
В числе основных принципов обеспечения доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления ст. 4 Федерального закона от 9 февраля 2009 г.
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» определяет в п. 1 открытость и доступность информации о деятельности государственных органов (кроме случаев, предусмотренных федеральным законом); в п. 3 свободу поиска, получения, передачи и распространения информации о деятельности государственных органов любым законным способом1.
Ограничение доступа к информации, согласно статье 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «…устанавли-вается федеральными законами в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства». Об этом же говорит, как указывалось ранее, и п. 1 ст. 8 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», из содержания которого мы видим, что аудио-, фото-, видеофиксация не должна противоречить требованиям законодательства Российской Федерации:
-
— об уголовном судопроизводстве. Согласно ст. 161 УПК РФ2 данные предварительного расследования могут быть преданы гласности лишь с разрешения следователя или дознавателя и только в том объеме, в каком ими будет признано это допустимым, если разглашение не противоречит интересам предварительного расследования и не связано с нарушением прав, свобод и законных интересов участников уголовного судопроизводства. Запрет на предание гласности данных предварительного расследования не распространяется на сведения: о нарушении закона органами государственной власти и их должностными лицами; распространенные следователем, дознавателем или прокурором в средствах массовой информации, сети Интернет или иным публичным способом; оглашенные в открытом судебном заседании;
-
— о производстве по делам об административных правонарушениях. К примеру, согласно ст. 49 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ3 эксперт не вправе разглашать сведения, которые
стали ему известны в связи с проведением экспертизы, или сообщать о результатах экспертизы кому-либо, за исключением суда, ее назначившего;
-
— об оперативно-розыскной деятельности, о защите государственной и иной охраняемой законом тайны. Например, недопустимо разглашать сведения о методах и средствах защиты секретной информации, о силах, средствах, об источниках, о методах, планах и результатах оперативно-розыскной деятельности и деятельности по противодействию терроризму, а также данные о финансировании этой деятельности, если эти данные раскрывают перечисленные сведения; данные о лицах, сотрудничающих или сотрудничавших на конфиденциальной основе с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность; о лицах, в отношении которых осуществляются мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»4 и Федеральным законом от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих ор-ганов»5 и др. информацию, указанную в Законе РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне»6. Иной охраняемой законом тайной может являться, например, коммерческая, налоговая, банковская, врачебная, нотариальная, адвокатская, аудиторская, тайна страхования, тайна ломбарда, тайна связи, тайна завещания, тайна усыновления, тайна исповеди, тайна совещания судей, секрет производства и т. п.
Кроме того, аудио-, фото-, видеофиксация не должна нарушать права граждан, общественных формирований. К примеру, согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»7 без согласия лица запрещены любые действия с информацией, относящейся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу. Исходя из положений ч. 1 ст. 23 и ч. 1 ст. 24 Конституции РФ, конфиденциальным характером обладает любая информация о частной жизни лица1.
Подобная открытость полицейской деятельности является составной частью современной политики государства по обеспечению доступности и понятности для общества, «прозрачности» деятельности государственных структур. Фиксация действий сотрудников полиции дает возможность общественного контроля за работой полиции, обеспечения доказательственной базы неправомерного поведения сотрудников, позволяет придать огласке факт такового.
Однако зачастую граждане используют предоставленное им право фиксации действий сотрудников полиции не в благих целях, а для вымещения своего негативного отношения к конкретному сотруднику или полиции в целом. Отснятые материалы размещаются в сети Интернет с негативными комментариями.
Рассмотрим, насколько законны действия граждан по размещению фото-, видеоматериалов с изображением сотрудников полиции в средствах массовой информации (далее — СМИ), в сети Интернет.
Прежде всего поясним, что согласно п. 43 «действия лица, впервые делающие изображение доступным для всеобщего сведения путем его опубликования, публичного показа либо любым другим способом, включая размещение его в сети Интернет называются обнародованием изображения»2. Согласно ч. 1 ст. 152.1 ГК РФ, распространяющей свое действие и на сотрудников полиции, обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) допускаются только с согласия этого гражданина3. Однако из этого общего правила существует три исключения. В частности, такое согласие не требуется в случаях, когда: 1) использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах; 2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях, за исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом использования; 3) гражданин позировал за плату.
Наличие данных исключений порождает много недопониманий. Как показал анализ судебной практики, нередко сотрудники полиции, ознакомившись с положениями ст. 152.1 ГК РФ, обращаются в суды за защитой нарушенного права, и проигрывают их, поскольку не учитывают обстоятельств, обусловленных профессиональным статусом полицейского. Но весьма распространены и случаи неверной трактовки судьями положений гражданского законодательства.
В своих решениях судьи руководствуются разъяснениями, содержащимися в п. 43 постановлениях Пленума Верховного суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»4 и постановлении от 15 июня 2010 г. № 16 «О практике применения судами Закона Российской Федерации „О средствах массовой информации“»5. Обратимся к анализу спорных моментов.
Относительно первого исключения из общего правила, предусмотренного ч. 1 ст. 152 ГК РФ (использование изображения полицейского осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах), Пленум Верховного суда РФ в постановлении от 23 июня 2015 г. № 256 обращает внимание на следующее.
К общественным интересам следует относить не любой интерес, проявляемый аудиторией, а, например, потребность общества в обнаружении и раскрытии угрозы демократическому правовому государству и гражданскому обществу, общественной безопасности, окружающей среде (п. 25)7. Он связан с заинтересованностью населения в обеспечении безопасности, благополучия, стабильности, как пишет Д. А. Туманов, «…потребностью в определенном благе, т. е. в том, что для общества или социальной группы имеет положительный эффект» [4, с. 61]. Об этом же говорит ст. 1 Модельного закона «О праве на доступ к информации»: это «…интерес любого лица (лиц), связанный с обеспечением благополучия, стабильности, безопасности и устойчивого развития общества»1. Его антипод — личный интерес — характеризует выгоду, заинтересованность конкретного лица (например, опорочить личность полицейского, выместить негативные эмоции и пр.).
Законным признается обнародование изображения полицейского без его согласия в рамках сообщений о фактах (даже весьма спорных), способных оказать положительное влияние на обсуждение в обществе вопросов, касающихся, например, исполнения своих функций сотрудником, если это необходимо для защиты правопорядка и государственной безопасности. Не нарушает закона размещение в СМИ, сети Интернет материалов информационной направленности, имеющих целью привлечь внимание общественности и самих правоохранительных органов к неправомерным действиям сотрудников полиции.
Неправомерность действий не обязательно должна быть сопряжена с преступным поведением. Она может идти вразрез с требованиями ведомственного законодательства (относительно ведения документации, ношения форменного обмундирования, этики поведения и т. п.).
Хочется заметить, что общественный и государственный интерес отнюдь не обязательно должен быть связан с неправомерным поведением полицейских. Совершение мужественных и героических поступков сотрудниками ОВД РФ как при выполнении служебного долга, так и вне служебного времени демонстрирует обеспечение безопасности граждан, общества государства.
Публичный интерес, как сказано в пункте 44 постановления Пленума Верховного суда РФ от 23 июня 2015 г. № 252, имеет место в случаях, когда гражданин является публичной фигурой (занимает государственную3 или муниципальную должность4, играет существенную роль в общественной жизни в сфере политики, экономики, искусства, спорта или любой иной области), и при этом обнародование и использование изображения осуществляется в связи с политической или общественной дискуссией или интерес к данному лицу является общественно значимым.
Как видно, наличие публичного интереса предполагает два условия:
-
1. Статус лица. Публичность фигуры, связанная с государственной или муниципальной должностью (перечень которых четко очерчен соответствующими нормативными правовыми актами), либо спортивной, политической, экономической, культурной и пр. деятельностью, существенной для общества.
-
2. Обнародование и использование изображения происходит в рамках политической или общественной дискуссии или интерес к данному конкретному человеку общественно значим.
Как показывает проведенный анализ судебных решений, судьи, отказывая сотрудникам полиции в иске об удалении незаконно обнародованного изображения, ссылаются на то, что полицейский, занимая государственную должность, является публичной фигурой, и интерес к нему является общественно значимым. Значимость интереса «увязывается» не с конкретным человеком, а профессиональным статусом полицейского, что абсолютно не соответствует позиции Пленума Верховного суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25. Несмотря на разъяснение Пленумом сути публичного интереса, в правоприменительной деятельности он зачастую трактуется неоднозначно. Вот тривиальная ситуация.
«Ж. является сотрудником ГИБДД. Действуя в рамках своих полномочий, выполнял функции надзора за дорожным движением. Противоправных действий не совершал; вел себя тактично и вежливо. Чтобы исключить какие-либо незаконные действия со стороны сотрудника ГИБДД, водитель записал разговор с Ж. на смартфон. Позже разместил отснятое видео в сети Интернет. Никакого словесного комментария воспроизведение ролика не содержит. В процессе общения с водителем Ж. предупреждал его о том, что данная видеозапись может быть использована только при обжаловании его действий и согласия на обнародование и использование своего изображения он не дает. Суд отказал Ж. в просьбе обязать водителя удалить изображение Ж. с сайта сети Интернет, мотивировав отказ следующим образом: использование ответчиком изображения истца связано с исполнением истцом своих должностных обязанностей и вызвано публичным интересом как к сотруднику ГИБДД, поэтому не является нарушением требований ст. 152.1 ГК РФ. Обнародование и использование изображения истца не является удовлетворением обывательского интереса к его частной жизни либо извлечением ответчиком из этого прибыли, и связано только с профессиональной деятельностью полицейского»1.
С учетом сказанного, подчеркнем, что в судебной практике прослеживается четкая тенденция: обнародование изображения сотрудника полиции, выполняющего свои должностные обязанности, не является нарушением требований ст. 152.1 ГК РФ. Обращает на себя внимание весьма расширенное толкование судьями публичного интереса. Фактически получается, судьи утверждают, что фигура полицейского в силу профессионального статуса априори обладает общественной значимостью. Эта самая общественная значимость отождествляется с общественным интересом, о котором шла речь в первом исключении ст. 152.1 ГК РФ. Схожие мнения можно встретить и в научной литературе. Н. В. Перепелкина, анализируя термин «публичный интерес», указывает: «1) следует использовать предложение А. М. Эрделевского, который справедливо полагает, что „под публичным интересом следует понимать подлежащий охране по смыслу закона интерес индивидуально не определенного круга лиц, общества в целом или публично-правового образования“; 2) толковать „публичность“ интереса следует расширительно, используя примеры из различных источников, но понимая, что эта самая „публичность“ определяется по содержанию правоотношения; 3) нельзя в контексте ст. 152.1 ГК РФ понимать под „публичным интере-сом“ только обнародование и использование изображения гражданина, если он является публичной фигурой, а обнародование и использование изображения осуществляются в связи с политической или общественной дискуссией» [2, с. 45]. Не углубляясь в анализ термина, упомянем, что солидарны с А. Г. Малиновой, полагающей, что «…термин „публичные интересы“ — это „троянский конь“, запущенный в российское законодательство. Смысл наделения понятия „публичные интересы“ новыми значениями, в корне отличающимися от общепринятых, состоит лишь в том, что некоторым правоведам почему-то показалось правильным обозначать этим термином те явления, которые традиционно обозначались терминами „государственный интерес“, „общественный интерес“, „законный интерес“» [1, с. 83].
Полагаем, подобная позиция в контексте рассматриваемой нормы является в корне неверной. Во-первых, законодатель не случайно «развел» понятия публичного и общественного интереса, в первом случае указывая на статус фигуры, во втором — на правоотношение, действия владельца изображения. Во-вторых, из постановления Пленума Верховного суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 явственно прослеживается, что конкретное лицо должно иметь определенное положение в обществе — занимать государственную или муниципальную должность, играть существенную роль в общественной жизни в определенной сфере.
Косвенно связь публичности со статусом лица, значимостью именно его персоны, а не какого-то обезличенного человека определенной профессии, подтверждается и позицией конституционного суда, указавшего в п. 2.2, что «…сведения о частной жизни, в особенности интимного характера, не могут признаваться общественно значимой информацией только потому, что они касаются публичного (широко известного в обществе) лица, включая представителей творческих профессий»2.
Рядовой сотрудник полиции этим условиям также не соответствует.
Как верно указывает А. Г. Малинова, «…публич-ный интерес — это вовсе не интерес публики или интерес социальной общности , поскольку прилагательное „публичный“, стоящее перед словом „инте-рес“, обозначает вовсе не субъекта этого интереса, а то, что данный интерес обладает признаком или свойством „публичности“» [1, с. 72].
В то же время следует указать, что неправомерным, по мнению Пленума Верховного суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25, признается обнародование изображения лица без его согласия, если единственной целью обнародования и использования изображения лица является удовлетворение обывательского интереса к его частной жизни либо извлечение прибыли. Обывательский интерес — это интерес, свойственный обывателю, человеку, лишенному общественного кругозора, живущему только мелкими личными интересами3. Частная жизнь включает в себя область жизнедеятельности человека, которая относится к отдельному лицу, касается только его и не подлежит контролю со стороны общества и государства, если она носит непротивоправный характер1. Как справедливо указывает Л.В.Сперанская, «к частной жизни можно отнести образ мыслей, увлечения, убеждения, хобби, привычки и иные аспекты жизни гражданина. Частная жизнь охватывает все сферы семейной, бытовой, имущественной, культурной жизни, родственных и дружественных связей, домашнего уклада, личных отношений» [3]. В таком материале, содержащем изображение полицейского, не идет речь об общественно значимой проблеме. Действия сотрудника здесь не сопровождаются нарушением им каких-либо норм и правил, не несут угрозу охраняемым законом отношениям.
Относительно второго исключения (изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях, за исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом использования), Пленум Верховного суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 поясняет, что «изображение гражданина на фотографии, сделанной в публичном месте, не будет являться основным объектом использования, если в целом фотоснимок отображает информацию о проведенном публичном мероприятии, на котором он был сделан»2.
Кроме того, если изображенные на коллективном фотоснимке граждане очевидно выразили свое согласие на фотосъемку и при этом не запретили обнародование и использование фотоснимка, то один из этих граждан вправе обнародовать и использовать такое изображение без получения дополнительного согласия на это от иных изображенных на фотоснимке лиц, за исключением случаев, если такое изображение содержит информацию о частной жизни указанных лиц (п. 1 ст. 152.2 ГК РФ).
Третье исключение из правила (гражданин — то есть полицейский — позировал за плату) в полицейской деятельности вряд ли возникнет. Возможность получения дополнительных доходов сотрудниками ограничена законом3.
И еще один важный момент нужно учитывать при определении правомерности обнародования изображения. Пункт 43 Пленума Верховного суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 закрепляет, что «обнародование — это действие, которое впервые делает изображение доступным для всеобщего обозрения посредством его опубликования, публичного показа либо любым другим способом, в том числе размещением его в сети Интернет»4. Именно это является аргументом для судей, отказывающих полицейским в удовлетворении исков, когда их фотографии в форменном обмундировании были получены гражданами на сайтах ОВД РФ и затем воспроизведены в средствах массовой информации или сети Интернет.
Но при этом обнародование изображения без согласия сотрудника (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 1–3 пункта 1 статьи 152.1 ГК РФ), в том числе размещение изображения самим сотрудником в сети Интернет, и общедоступность такого изображения сами по себе не дают иным лицам права на свободное использование такого изображения без получения согласия изображенного сотрудника. Но при этом обстоятельства размещения сотрудником своего изображения в сети Интернет могут свидетельствовать о выражении согласия на дальнейшее использование данного изображения (это может быть предусмотрено условиями пользования сайтом, на котором сотрудник разместил такое изображение). Так, например, Р. является сотрудником полиции. На сайте социального онлайн-проекта была опубликована статья, в которой шла речь о том, что «Р. — жена мошенника, подозреваемого в краже 7,5 млн рублей выиграла конкурс «Мисс полиция — 2015». К сообщению была прикреплена ее фотография в форме сотрудника полиции и личная фотография на морском пляже. Фотография в форменной одежде в свое время была получена из пресс-службы УМВД путем рассылки по всем СМИ. Фотография на пляже была получена из социальной сети с личной страницы супруга Р.
Касаемо фото Р. на пляже, автор статьи подтвердил, что получил его на сайте супруга и разместил без получения соответствующего согласия Р. В суде он не доказал, что распространение указанной фотографии было нужно для защиты общественных интересов. Поэтому суд обязал удалить пляжную фотографию Р. с сайта с принесением соответствующего извинения»5. Относительно фото в форменном обмундировании, суд указал, что использование изображения истца, как сотрудника полиции согласно пункта 1 ст. 152.1 ГК РФ обусловлено общественными или иными публичными интересами (несмотря на то, что в статье речь шла о противоправном поведении супруга Р., а не ее самой! — С. Т.), в связи с чем ее согласие на использование данного изображения не требуется. К тому же публикация не может приравниваться к незаконному вторжению в личную жизнь Р., поскольку на изображении не была представлена ситуация унижения или серьезного смущения истца, не раскрываются интимные аспекты ее личной жизни, результаты медицинского вмешательства, не имеется ничего, что могло бы тем или иным образом причинить вред таким ее нематериальным благам как честь, достоинство и деловая репутация.
Отдельного внимания заслуживает вопрос правомерности обнародования служебного удостоверения сотрудника полиции. Часто граждане, отсняв видеоматериалы с участием полицейских, делают скриншоты, и помимо видеофрагмента размещают в сети Интернет фото удостоверения полицейского. Судьи, как правило, также ссылаясь на публичность фигуры сотрудников, не видят в этом нарушений. Согласиться с этим нельзя. Аргументируя, обратимся к положениям Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О поли-ции»1 и Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»2.
Согласно п. 1 ст. 3 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» персональными данными лица является «любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)»3. При этом указанный Закон в п. 1 ч. 1 ст. 6 запрещает обработку персональных данных без согласия их владельца, относя к таковой в п. 3 ст. 3 «любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных»4.
В то же время для того, чтобы гражданин мог убедиться, что перед ним действительно сотрудник органов внутренних дел, ст. 4 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»
обязывает сотрудника при обращении к гражданину назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, а статья 5 предписывает в случае обращения к нему гражданина назвать должность, звание, фамилию.
В данном случае запись персональных данных полицейских с использованием средств автоматизации является самостоятельным действием, о которой в Федеральном законе от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» речи не идет. У сотрудника полиции нет обязанности предоставить гражданину такую возможность. На него в полной мере распространяются положения ст. 6 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных».
Если сотрудник все-таки принимает решение обратиться в суд в связи с обнародованием его изображения, он должен принимать во внимание п. 48 постановления Пленума Верховного суда РФ от 23 июня 2015 г. № 255 и положения ст. 56 ГПК РФ6, согласно которым факт обнародования и использования изображения определенным лицом подлежит доказыванию лицом, запечатленным на таком изображении. При этом важно удостоверить факт обнародования в соответствии с законодательством о нотариате и нотариальной деятельности (поскольку к моменту судебного заседания изображение может быть удалено из интернет-ре-сурса и доказательство будет утрачено). Необходимые доказательства — удостоверение содержания сайта интернет-ресурса по состоянию на определенный момент времени — могут быть получены у нотариуса и до обращения полицейского в суд. Согласно ч. 5 ст. 61 ГПК РФ обстоятельства, подтвержденные нотариусом, не требуют доказывания, если подлинность оформленного документа не опровергнута в установленном порядке7.
Альтернативой может служить обращение сотрудника с заявлением о нарушенном праве в ОВД для регистрации в Книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях. В рамках проверки заявления сотрудниками может быть составлена справка с описанием обнародованного изображения и исходными данными сообщения либо протокол осмотра веб-страницы.
Согласно п. 7 постановления Пленума Верховного суда РФ от 15 июня 2010 г. № 16, законом не предусмотрено ограничений в способах доказывания факта распространения сведений через телекоммуникационные сети (в том числе, через сайты в сети Интернет). Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу ст. 55 и 60 ГПК РФ вправе принять любые средства доказывания. Поэтому не исключается возможность осмотра и исследования и в судебном заседании информационных ресурсов, опубликовавших изображение сотрудника полиции либо иных информационных источников, опубликовавших изображение, со ссылками на первоисточник.
Кроме этого, нужно учесть, что иск должен быть заявлен к именно к лицу, которое нарушило право полицейского на охрану изображения, т. е. незаконно обнародовало изображение, Гражданское процессуальное законодательство называет такого ответчика надлежащим. В противном случае возможен отказ судом в исковых требованиях. Так, ответчиком может быть гражданин, разместивший изображение на интернет-форуме или социальной сети (он имеет возможность самостоятельно и разместить, и удалить изображение); владелец веб-сайта; физическое лицо, информация о котором отражена на веб-сайте; администратор веб-сайта, осуществляющий его наполнение; лицо, которому передано право на администрирование веб-сайта. Сотруднику могут быть полезны сведения о создателях канала, администраторах, модераторах и пр.
А вот обязанность доказать правомерность обнародования и использования изображения сотрудника полиции лежит на лице, его осуществившем (п. 48 постановления Пленума Верховного суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25).
Сотрудник полиции в исковом заявлении вправе требовать удаления своего изображения, возмещения убытков (например, за лекарства, потребовавшиеся в связи с переживаниями из-за обнародованного изображения), компенсации морального вреда (его тоже нужно подтвердить), возможно, и опровержения какой-либо информации.
Выводы
Анализ нормативной правовой основы и правоприменительной практики обнародования изображения сотрудника полиции, полученного в ходе фото-, видеофиксации его действий при исполнении профессиональных обязанностей позволил констатировать, что положения ст. 152.1 ГК РФ в полной мере распространяются на сотрудников полиции. Судьи в ходе рассмотрения споров полицейских с лицами, осуществившими обнародования их изображений, выносят диаметрально противоположные решения. Часто сотрудники полиции являются проигравшей стороной. Это обусловлено нечеткостью формулировок, содержащихся в соответствующих правовых источниках, сложившейся судебной практикой, а также пассивностью самих полицейских в отстаивании своих законных прав и интересов.
Заключение
Важность предоставления гражданам права фото-, видеофиксации действий полицейских не вызывает сомнений. Однако анализ сети Интернет свидетельствует о том, что, значительная часть размещаемых там материалов с изображениями полицейских, фактически, направлена на демонстрацию своего отрицательного отношения к сотрудникам. Даже совершенно правомерные действия полицейских интерпретируются авторами фото- и видеофрагментов в негативном ключе, собирая уничижительные комментарии. Это негативно сказывается на психо-эмоциональном состоянии самих полицейских и имидже ведомства в целом. Видится два варианта выхода из сложившейся ситуации: 1) активизация работы подразделений информации и общественных связей, способных оказать помощь сотрудникам по сопровождению судебных исков (аналогично процедуры защиты чести и достоинства регламентированной приказом МВД России от 19 декабря 2018 г. № 850 «Об организации защиты чести, достоинства и деловой репутации сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, федеральных государственных гражданских служащих и работников системы МВД России в связи с осуществлением ими служебной деятельности, деловой репутации подразделений системы МВД России») в различных инстанциях, вплоть до Верховного суда РФ, и активное освещение выигранных процессов в средствах массовой информации, сети Интернет; 2) внесение дополнений в постановление Пленума Верховного суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25.
Список литературы Обнародование изображения сотрудника полиции
- Малинова А. Г. Публичные интересы: история, теория и аргументы против использования этого термина в российском законодательстве // Российский юридический журнал. 2023. № 1. С. 65-84. EDN: XAVGNZ
- Перепелкина Н. В. Право на изображение гражданина: правоприменительный аспект // Гражданин и право. 2020. № 11. С. 31-46. EDN: XPENNW
- Сперанская Л. В. Право на неприкосновенность частной жизни: [Подготовлено для системы КонсультантПлюс, 2024] // СПС "КонсультантПлюс". URL: https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=132121&cacheid=B39AADC3B71A34E238436CDBF0515F81&mode=splus&rnd=411Rhw#WeEUq0 U3U4M0gKI4 (дата обращения: 09.11.2023).
- Туманов Д. А. Об общественном интересе и его судебной защите // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. № 12. С. 54-70. EDN: VBCTER