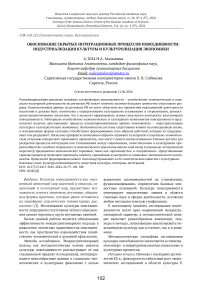Обоснование скрытых интеграционных процессов повседневности: индустриализация культуры и культуролизация экономики
Автор: Мальшина Н.А.
Рубрика: Культурология и искусствоведение
Статья в выпуске: 97 т.26, 2024 года.
Бесплатный доступ
Разнонаправленная динамика основных составляющих повседневности - хозяйственно-экономической и социально-культурной деятельности по регионам РФ может означать наличие большого ценностно-смыслового разрыва. Количественные данные по регионам РФ не могут объяснить все проявления повседневной деятельности населения и должны быть соотнесены с определенными культурными установками и стереотипами, ценностными предпочтениями населения, что и позволит сформировать основу смыслового конструкта/ конгломерата повседневности. Интеграция хозяйственно-экономического и культурного компонентов повседневности предполагает наличие двустороннего процесса взаимопроникновения данных компонентов - индустриализация культуры и культуролизация экономики. Экономические системы существенно влияют на повседневную жизнь, и материальные формы культуры способствуют формированию схем-образов действий, которые их поддерживают или разрушают. Поскольку артефакты уникальным образом отражают культурную и социально-экономическую ситуацию конкретного временного промежутка, они могут служить малоизученными точками доступа для раскрытия процессов интеграции или столкновений между социальными, политическими и культурными сферами общества. Симбиоз творческого и экономического мышления внесли свой вклад в социально-исторический пересмотр традиционно экономических терминов, таких как «производство» и «потребление». Представленные скрытые процессы позволяют прояснить симбиоз, сращивание культурного и социально-экономического компонентов. Происходит формирование нового типа индустриального в его синтетическом единстве с культурным.
Культура повседневности, индустрия культуры, паттерны, интеграция
Короткий адрес: https://sciup.org/148330138
IDR: 148330138 | УДК: 168.522 | DOI: 10.37313/2413-9645-2024-26-97-102-108
Текст научной статьи Обоснование скрытых интеграционных процессов повседневности: индустриализация культуры и культуролизация экономики
EDN: KNKGQI
Введение. Культура повседневности как «жизненный целостный мир значений и смыслов, социальный и культурный мир, предоставил возможность изучать типичные, рутинные, обыденные формы практики, которые ранее оставались на периферии классических гуманитарных дисциплин» [3]. Исследование культуры повседневности затруднено отсутствием чёткого определения самого термина и круга изучаемых явлений.
Целью данной работы является обоснование эффективности междисциплинарного подхода в выявлении латентных характеристик повседневности как пространства взаимодействия хозяйственно-экономической и духовной сфер жизни.
Методы исследования. Междисциплинарный подход как методологическая основа анализа культуры повседневности рассматривает ее как специальный предмет исследования, интегрирующего многообразные данные о социально-экономических и культурных феноменах с целью выявления закономерностей их становления, функционирования, определения базовых ценностных оснований. Культура повседневности интегрирует накопленные знания в области смежных наук и сферах деятельности, исключая любую методологическую унификацию.
К настоящему моменту исследование повседневности носит ярко выраженный междисциплинарный характер, а методологический аппарат включает разнообразные концепции, подходы и методы, позволяющие анализировать повседневную культуру как в статике, так и в динамике.
Методологическая специфика исследования культуры повседневности заключается в совмещении микро- и макроуровня анализа социальных и культурных процессов.
История вопроса. Начиная с последних десятилетий ХХ в., фиксируется стабильный рост экономических исследований в области культуры Р.
Бaррo, Р. МакКлири, Р. Франк, Г. Хофстеде, Дж. Ньюбайджин [15] and M. Х. Бoнд, Л. Гуизо, Л. Зин-галес, П. Сапиенц, проводимых при помощи количественных методов Л. Харрисон и Дж. Гра-нато, Р. Ингельхарт, Д. Лебланг и др., для определения силы и объема воздействия культурных различий на экономические результаты в мировой практике Ш. Бёгельсдейк, Р. Маселанд [1], Д. Сванк, Г. Табеллити, [21], и др.
Особую актуальность проблематика индустрии культуры получила в концепциях франкфуртской школы (Т. Адорно, В. Беньямин, Ю. Хабермас, М. Хоркхаймер и др.). Основы критического подхода к индустриальному обществу, направленному на массовое производство и потребление, формирует Г. Маркузе. В отдельных работах интерес к взаимосвязи экономики и культуры был определен как «культурный поворот» (culturalturn) и обусловлен определенной восприимчивостью к культурным идеям.
Модель экономических структур культуры исследуется в работах Пьера Бурбье и состоит из «…концентрических кругов, в центре которой находятся арт-индустрия, а все остальные образуют свои слои или круги, размещающиеся вокруг центра, простирающиеся все дальше по мере того, как использование креативных идей включается в более широкий производственный контекст» [22, с. 21]. В работах Д. Тросби представлена уже централизованная модель культурных индустрий, состоящая из двух основных кругов. В классическом эссе В. Беньямина прогрессивный потенциал культуры усматривается в «распространении механизации и массового производства на область культуры» [2, с. 24].
В отечественных исследованиях сформировалась обширная школа изучения взаимодействия и взаимообусловленности культуры и экономической науки с учетом нашей, российской специфики функционирования: Долгин А.Б. [4], В.Ю. Музычук, А.Я. Рубинштейн [16], исследователи культурных индустрий школы В.Л. Глазычева, Г.Л. Тульчинского, социокультурных и антропологических аспектов общества потребления Е.В. Листвина, возможности применения количественных методов оценки в исследовании феноменов культуры Н.В. Тищенко.
Советская и российская культурология накопили значительный теоретико-методологический багаж анализа социокультурных ресурсов развития. Особенно актуальным является обоснование единства и целостности во взаимодействии духовных и материальных элементов культуры (Л.Н. Коган [7], Ю.М. Лотман [9], Э.С. Маркарян, В.М. Межуев), научной проблематики изучения культурного пространства и его модификаций (И. М. Гуткина).
Пристальный интерес к исследованию индустриальной и массовой культуры в социально-гуманитарных науках появился в середине ХХ столетия. Этот же интерес в свое время актуализировался в марксизме, структурном функционализме и постмодернизме, экзистенциализме, феноменологии, социологии конструктивизма, символическиго интеракционизма и др. В феноменологии повседневность становится специальным предметом изучения в работах Э. Гуссерля, Б. Ванденфельса, А. Шюца и др.
В кросскультурной компаративистике и смежных науках предложен ряд теоретико-эмпирических подходов к измерению культурных отличий и их связей с социально-экономическим развитием (G. Hofstede, R. Inglehart, K. Leung, S. H. Schwartz и др.).
Наличие латентных паттернов в дифференцированных моделях культуры повседневности населения обусловлено различиями во взаимосвязи и возможном взаимовлиянии духовнонравственных ценностных предпочтений и хозяйственно-экономических детерминант жизненного мира [3]. Выявление паттернов в структуре повседневности позволяет описать и исследовать типические глубинные культурные установки населения регионов различных типологических групп. Пространственная неравномерность распределения духовно-нравственных ценностных предпочтений и хозяйственно-экономической жизни регионов РФ, формирует предпосылки как различия и разобщенности современного российского общества, так и его сплоченности и консолидации.
Характеристиками повседневности можно рассматривать обыденность, привычность, типичность, не рефлективность, самоочевидность, невовлеченность в ситуацию. Составляющие смыслового конструкта повседневности функционируют как бинарные группы.
Результаты исследования. Количественные показатели повседневной жизни населения как интегральной области экономической и деятельности культуры позволяют выявить определенные паттерны/ акторы современного общества по регионам РФ. Динамика эффективности деятельности культуры центральных субъектов явно демонстрирует максимальные и активные лидерские позиции, минимальные показатели встречаются редко или переходят в средние или лидерские, что подтверждает наличие разрыва в эффективности центра и периферийных регионов европейской части РФ [5]. Также прослеживается наличие различий в деятельности коммерчески и не коммерчески ориентированных учреждений культуры и искусства.
В осовремененном обществе нерефлексивный характер повседневности становится необходимым условием некритического усвоения норм, ценностей и идеологем, транслируемых повседневной культурой. Однако исследование феномена повседневности затруднено, исходя из методологических и теоретических оснований [6]. Показатели хозяйственно-экономической и социально-культурной сфер повседневной жизни населения растворяются в общих статистических данных и приводятся к усредненным медиальным значениям, не предоставляя возможности четкого прогнозирования и не попадая в научное осмысление экономики, социологии и культурологии, теряя важные прогностические возможности.
Разнонаправленная динамика основных составляющих повседневности – хозяйственноэкономической деятельности и социально-культурной деятельности по регионам РФ [12] может означать наличие большого ценностно-смыслового разрыва. Количественные данные по регионам РФ не могут объяснить все проявления повседневной деятельности населения и должны быть соотнесены с определенными культурными установками и стереотипами, ценностными предпочтениями населения, что и позволит сформировать основу смыслового конструкта/ конгломерата повседневности.
Количественный и качественный дисбалансы и неравномерность расположения объектов социально-культурной деятельности [13] и производственной сферы по регионам РФ влияют на качество жизни и обуславливают благосостояние населения. Пространственное распределения уже рассматривается не в чисто географическом аспекте, а выступает экономическим ресурсным потенциалом и фактором производства [10]. Пространство локализирует экономику конкретного региона, определяя конкурентоспособность производственной системы и ее специализацию. Пространственное распределение экономического ресурсного потенциала и возможности его развития во многом обусловлено национальноисторическими факторами, человеческим и социально-культурным капиталом и др. Социокультурные ресурсы понимаются как конструкт смыслов, ценностей и духовной деятельности в результате освоения актуальной культуры, влияния на производство и среду обитания.
Типичность ситуации регионов аграрной специализации проявляется в невозможности реализации потенциала творчества производственной средой и культурной инфраструктурой сельских поселений и, как следствие, в невовлеченности населения.
При сравнении показателей эффективности явно проявляется бинарность количественных показателях характеристик [14] как самого индекса эффективности, так и количества суботрас-лей с высокими показателями.
Экономика – внешняя по отношению к культуре и искусству система, а социальная система с определенными ресурсами и потенциалом, которая способствует созданию новых форм культуры и искусства. Произведения искусства не просто тематизируют или отражают экономические проблемы, но и участвуют в экономических дискуссиях своего времени, принимая материальную, техническую, изобразительную и концептуальную форму.
Экономические системы существенно влияют на повседневную жизнь, и материальные формы культуры способствуют формированию схем-образов действий, которые их поддерживают или разрушают. Поскольку артефакты уникальным образом отражают культурную и социально-экономическую ситуацию конкретного временного промежутка, они могут служить малоизученными точками доступа для раскрытия процессов интеграции или столкновений между социальными, политическими и культурными сферами общества. Симбиоз творческого и экономического мышления внесли свой вклад в социальноисторический пересмотр традиционно экономических терминов, таких как «производство» и «потребление».
Давление экономики как социальной структуры на ценностные установки общества и эклектичность, мозаичность методов, используемых культурологами для осмысления индустриальных форм культуры, подтверждает актуальность инновационных подходов и нелинейной методологии их исследования. Потребительские предпочтения уже слабо анализируются при помощи традиционных классических подходов, а все больше определяются нелинейными инновационными методами объяснения. Взаимовлияние культурных дефиниций и современного «общества потребления» требует новых методик описания данного процесса, новых подходов при анализе единиц, категорий, правил.
Признание экономических систем как социально-политических конструкций и выявление различных форм деятельности, воплощенных в практиках и теориях, могут буквально материализоваться в предметах искусства, и эти предметы, в свою очередь, могут предопределять или направлять их восприятие или использование человеком. Обсуждение культуры повседневности как «сферы экономической деятельности» означает не столько возведение ее в ранг псевдокультуры, сколько прослеживание трансформации смыслового содержания культуры. Экономические системы существенно влияют на повседневную жизнь и способствуют формированию установок, схем-образов действия, привычек, которые их поддерживают или разрушают. Произведения культуры и искусства можно рассматривать не просто как продукт внешних экономических ограничений, но прежде всего как продукт субъектов экономической практики и теории.
Выявление алгоритма взаимодействия экономики и культуры позволит минимизировать негативные стороны взаимовлияния основных экономических детерминант и ценностных смыслообразующих установок общественного поведения и максимизировать положительные аспекты данного взаимодействия в контексте повседневности.
Автор предлагает рассматривать повседневность основанной на конвергенции бинарных смысловых конструктов: «стоимость» / «ценность», «сервис» / «творчество», « информация » / « знание », « техника»/ «природа» (талант/ уникальность/ одаренность), «приятное» (рекреация)/ «прекрасное», «контроль»/ «свобода» на основе антагонистических паттернов повседневности как интегральной области экономической и культурной деятельностей, бинарность антагонизм всех основных смысловых направлений России. Визуализация и фрагментарность выступают схемой-образом ее функционирования.
В результате интегральные процессы, основанные на взаимодействии антагонистичных смысловых конструктов в зависимости от исходной цели и базовых составляющих формируют конечную структуру для конкретного потребителя в конкретный временной промежуток. Интеграция возможна при использовании положительных результатов как хозяйственно-экономического, так и духовного творческого компонентов, но не при доминировании экономического компонента. Хозяйственно-экономический компонент может служить материальной основой для духовного творческого компонента, во многом ставя для него новые цели и поднимая его на новый виток спирали развития. Повседневность в данной модели выступает степенью концентрации проявления данных антагонистичных компонентов.
В рамках данной авторской модели функции делятся на два антагонистичных, но при этом взаимосвязанных блока: функциональный и ресурсный. В функциональный блок входит вне хозяйственно-экономические (духовные творческие компоненты) компоненты ( ценность - знание - творчество ), выполняющие функцию теоретико-методологические (концепция, теория, методология), функцию мотивации. Ресурсный блок состоит из хозяйственно-экономических компонентов ( стоимость - информация - сервис ) - материальные, финансовые, информационные и рекреационные ресурсы, материально-технический базис - и выполняет обеспечивающие функции. Экономические показатели рассматриваются как обеспечение интеграции и дальнейшего развития компонентов искусства и культуры. Одновременно трансформируются и экономические компоненты, испытывая влияние ценностных составляющих. Само понятие интеграционной модели рассматривает в большей степени качественные позитивные изменения.
Если потребительские предпочтения формируют социальную реальность, это должно проявляться в формировании идентифицируемых групп, которые отдают предпочтение определенным профилям потребления и формулируют ценности, основанные на их принадлежности.
Указанные стимулирующие идеи требуют как обширного эмпирического обоснования, так и четкого теоретического изложения новой парадигмы, ориентированной на потребление. Этого можно достичь с помощью сравнительных исследований, которые могут прояснить, как макропроцессы формируют конфигурации повседневного образа жизни и связь между культурным потреблением и социальным положением в различных социальных и культурных контекстах. В последние годы появилось больше кросс-культурных и кросс-суботраслевых исследований, хотя их число все еще довольно невелико. Реализация таких проектов сопряжена с логистическими, методологическими, лингвистическими и концептуальными трудностями. Преимущества сравнительного исследования многочисленны: оно предоставляет возможности для обобщения феномена потребления; позволяет проверить теоретические утверждения и усиливает причинноследственные связи и объяснительные возможности; способствует рассмотрению этнографических записей и обзорных исследований и формированию новых методологий; освещает процессы конвергенции и дивергенции, а также роль экономические и социальные факторы, влияющие на формирование потребления. Проблемы культурного потребления существуют внутри стран и во все большей степени – на транснациональном уровне. Космополитическая культура интегрируется в национальную культуру как реакция на глобализированные циклы производства и потребления. Сравнительные исследования необходимы для продвижения исследований культурного потребления, как для совершенствования сбора данных, так и для уточнения теоретических аргументов.
Культурное потребление занимает важное место в изучении культуры повседневности и образа жизни, но оно четко не сформулировано. Теоретический акцент на переходе от производства к потреблению приводит к переосмыслению фокуса интересов, а обсуждение множественных потребительских идентичностей развивает мощный концептуальный инструмент – структуру потребления. Анализ влияния социальной матрицы на культурное потребление позволяет уточнить различия в потреблении.
Выводы. Интеграция хозяйственно-экономического и культурного компонентов повседневности предполагает наличие двустороннего процесса взаимопроникновения данных компонентов – индустриализация культуры и культуро-лизация экономики. Индустриализация культуры предполагает наличие таких характеристик: модернистский вариант коммодификации объектов культуры; массовое производство (тиражирование) и потребление. Кроме того, указанная тенденция содержит в себе следующие позиции: ко-модификация потребления; утрата культурой регулятивной и критической функций; проектность культурного производства.
Обратная тенденция культуролизации экономики содержит следующие характеристики: потеря только коммерческих целей производства; «экономика знаков» или «символического обмена» (Ж. Бодрийяр, С. Леш, Д. Тросби).; рост роли культурной компетенции в производстве; уменьшение стоимости материальной составляющей продукции.
Представленные скрытые процессы позволяют прояснить симбиоз, сращивание культурного и социально-экономического компонентов. Происходит формирование нового типа – индустриального в его синтетическом единстве с культурным, в частности, синтез материального и духовного, производства и потребления, социально-экономического и культурного.
-
1. Бегельсдайк, Ш., Маселанд, Р. Культура в экономической науке. История, методологические рассуждения и области практического применения в современности. – СПб.: Изд-во Института Гайдара, Международные отношения, Факультет свободных искусств и наук, 2016. – 446 с.
-
2. Беньямин, В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. – М.: Культурный центр имени Гете; Медиум, 1996. – 240 с.
-
3. Великий, П. П. Повседневность российского села в начале XXI века. – Саратов, 2020. – 307 с.
-
4. Долгин, А. Б. Экономика символического обмена. – Москва: Инфра-М, 2006. – 632 с.
-
5. ИНДУСТРИЯКУЛЬТУРЫ.РФ Показатели эффективности в сфере культуры [Сайт]. – URL: https://индустриякуль-туры.рф/ (дата обращения 01.06.2014).
-
6. Капкан, М. В. Культура повседневности. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2016. – 110 с.
-
7. Коган, Л. Н. Социология культуры / Л. Н. Коган; Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького. Екатеринбург : УрГУ, 1992. 117 с.
-
8. Коган, Л. Н. Теория культуры. – Екатеринбург.: УрГУ. 1993. – 160 с.
-
9. Лотман, Ю. М. Поэтика бытового поведения в культуре XVIII в. // Лотман, Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство – СПБ, 2002. – С. 233-254.
-
10. Мальшина, Н. А . Картирование индустрии культуры как способ визуализации социокультурных трансформаций в Российских регионах // Ярославский педагогический вестник. – 2023. – № 3 (132) . – С. 181-189.
-
11. Мальшина, Н. А. Моделирование и прогнозирование развития территорий на основе экономико-математического метода // VIII Международная научно-практическая интернет-конференция «Проблемы экономического роста и устойчивого развития территорий. Вологда: Издательство: Вологодский научный центр Российской академии наук. – 2023. – С. 113-118.
-
12. Мальшина, Н. А. Визуализация взаимосвязи культуры и экономики на примере лидерских позиций современного театрального искусства и культуры по регионам РФ // С ервис plus . – 2023. – Т. 17. №3. – С. 50-60.
-
13. Мальшина, Н. А. Практики функционирования культурно-досуговых учреждений: ранжирование регионов Российской Федерации // Культура в евразийском пространстве: традиции и новации. – 2022. – №1 (6). – С. 49-52
-
14. Мальшина, Н. А. Методика DEA-анализа деятельности детских школ искусств путем ранжирования регионов РФ: региональный аспект // В сб. Искусство и образование, образование в искусстве. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – Пермь. 2022. – С. 21-37.
-
15. Ньюбайджин, Дж. Креативная экономика. Картирование. – М: «Креативная экономика». 2011. – С. 80.
-
16. Рубинштейн, А. Я. Опекаемые блага в сфере культуры: признаки и последствия «болезницен». - М.:Инсти-тутэкономикиРАН. 2012. - 78 с.
-
17. Рудая, Т. В. Креативная экономика в системе постиндустриального общества // Креативная экономика. – 2008. – № 8 (20). – C. 3-11.
-
18. Тамбовцев, В. Л. Причины «болезни издержек» Баумоля: низкая производительность или культурные стереотипы? \\ Журнал НЭЛ. – 2012. – №2 (14). – С. 132-134.
-
19. Тросби, Д . Экономика и культура. – М.: Изд. дом Высшей школы экономик. 2013. – 159 c.
-
20. Хезмондалш, Д. Культурные индустрии / пер. с англ. И. Кушнаревой; под науч. ред. А. Михалевой; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. – 456 с.
-
21. Tabellini, G. Culture and Institutions: Economic Development in the Regions of Europe // Journal of the European Economic Association. – 2010. – № 8 (4). – P. 677–716.
-
22. Bourbieu, P. The Field of cultural production: essays on art and literature / R. Jonson. Cambridge: Polity press. – 1993. – Р. 21.
SUBSTANTIATION OF THE HIDDEN INTEGRATION PROCESSES OF EVERYDAY LIFE:INDUSTRIALIZATION OF CULTURE AND CULTURALIZATION OF ECONOMY
Natalia A. Malshina, PhD in Philosophy, Associate Professor of The Department of Humanitarian DisciplinesE-mail: malsnataliya@yandex.ru
Список литературы Обоснование скрытых интеграционных процессов повседневности: индустриализация культуры и культуролизация экономики
- Бегельсдайк, Ш., Маселанд, Р. Культура в экономической науке. История, методологические рассуждения и области практического применения в современности. - СПб.: Изд-во Института Гайдара, Международные отношения, Факультет свободных искусств и наук, 2016. - 446 с.
- Беньямин, В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. - М.: Культурный центр имени Гете; Медиум, 1996. - 240 с.
- Великий, П. П. Повседневность российского села в начале XXI века. - Саратов, 2020. - 307 с.
- Долгин, А. Б. Экономика символического обмена. - Москва: Инфра-М, 2006. - 632 с.
- ИНДУСТРИЯКУЛЬТУРЫ.РФ Показатели эффективности в сфере культуры [Сайт]. - URL: https://индустриякуль-туры.рф/ (дата обращения 01.06.2014).
- Капкан, М. В. Культура повседневности. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. - 110 с.
- Коган, Л. Н. Социология культуры / Л. Н. Коган; Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького. Екатеринбург: УрГУ, 1992. 117 с.
- Коган, Л. Н. Теория культуры. - Екатеринбург.: УрГУ. 1993. - 160 с.
- Лотман, Ю. М. Поэтика бытового поведения в культуре XVIII в. // Лотман, Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство - СПБ, 2002. - С. 233-254.
- Мальшина, Н. А. Картирование индустрии культуры как способ визуализации социокультурных трансформаций в Российских регионах // Ярославский педагогический вестник. - 2023. - №3 (132). - С. 181-189.
- Мальшина, Н. А. Моделирование и прогнозирование развития территорий на основе экономико-математического метода // VIII Международная научно-практическая интернет-конференция «Проблемы экономического роста и устойчивого развития территорий. Вологда: Издательство: Вологодский научный центр Российской академии наук. - 2023. - С. 113-118.
- Мальшина, Н. А. Визуализация взаимосвязи культуры и экономики на примере лидерских позиций современного театрального искусства и культуры по регионам РФ // Сервис plus. - 2023. - Т. 17. №3. - С. 50-60.
- Мальшина, Н. А. Практики функционирования культурно-досуговых учреждений: ранжирование регионов Российской Федерации // Культура в евразийском пространстве: традиции и новации. - 2022. - №1 (6). - С. 49-52
- Мальшина, Н. А. Методика DEA-анализа деятельности детских школ искусств путем ранжирования регионов РФ: региональный аспект // В сб. Искусство и образование, образование в искусстве. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. - Пермь. 2022. - С. 21-37.
- Ньюбайджин, Дж. Креативная экономика. Картирование. - М: «Креативная экономика». 2011. - С. 80.
- Рубинштейн, А. Я. Опекаемые блага в сфере культуры: признаки и последствия «болезни цен». - М.: Институт экономики РАН. 2012. - 78 с.
- Рудая, Т. В. Креативная экономика в системе постиндустриального общества // Креативная экономика. - 2008. - № 8 (20). - C. 3-11.
- Тамбовцев, В. Л. Причины «болезни издержек» Баумоля: низкая производительность или культурные стереотипы? \\ Журнал НЭЛ. - 2012. - №2 (14). - С. 132-134.
- Тросби, Д. Экономика и культура. - М.: Изд. дом Высшей школы экономик. 2013. - 159 с.
- Хезмондалш, Д. Культурные индустрии / пер. с англ. И. Кушнаревой; под науч. ред. А. Михалевой; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. - 456 с.
- Tabellini, G. Culture and Institutions: Economic Development in the Regions of Europe // Journal of the European Economic Association. - 2010. - № 8 (4). - P. 677-716.
- Bourbieu, P. The Field of cultural production: essays on art and literature / R. Jonson. Cambridge: Polity press. - 1993. - Р. 21.