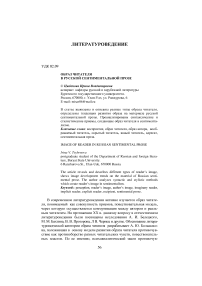Образ читателя в русской сентиментальной прозе
Бесплатный доступ
В статье выявлены и описаны разные типы образа читателя, определены тенденции развития образа на материале русской сентиментальной прозы. Проанализированы синтаксические и стилистические приемы, создающие образ читателя в сентиментализме.
Восприятие, образ читателя, образ автора, воображаемый читатель, скрытый читатель, явный читатель, адресат, сентиментальная проза
Короткий адрес: https://sciup.org/148316455
IDR: 148316455 | УДК: 82.09
Текст научной статьи Образ читателя в русской сентиментальной прозе
В современном литературоведении активно изучается образ читателя, понимаемый как совокупность приемов, повествовательная модель, через которую осуществляется коммуникация между автором и реальным читателем. На протяжении XX в. данному вопросу в отечественном литературоведении были посвящены исследования А. И. Белецкого, М. М. Бахтина, В. В. Прозорова, Л В. Чернец и другие. Обоснование литературоведческой категории образа читателя разрабатывает А. Ю. Большакова, положившая в основу модели развития образа читателя противочув-ствие как противоборство разных читательских чувств, повествовательных пластов. По ее мнению, психоаналитический закон противочув- ствия заключается в одновременном переживании читателем противоположных чувств [1, с. 22]. В структуре образа читателя А. Ю. Большакова выделила следующие доминанты читательского восприятия: все настроение рассказа; фиксацию устойчивых, повторяющихся элементов; заглавие, задающее рецептивный фон для всего повествования; образ-символ, обретающий доминантное значение и становящийся сквозным; неправильности, «странности», ошибки и искажения, неточности, непонятные звуки, слова-оговорки [1].
Проблема читателя в сентиментальной повести изучена литературоведами менее всего. Есть исследования, посвященные поэтике и особенностям нарративной структуры повести «Бедная Лиза» Н. М. Карамзина, а также изучению некоторых других повестей писателя [2; 3]. Однако исследования, посвященные образу читателя в сентиментализме, в современном литературоведении отсутствуют.
В 1979 г. вышел сборник сентиментальных повестей под редакцией П. А. Орлова. В него вошли повести П. Ю. Львова «Роза и Любим», М. Н. Муравьева «Обитатель предместия», Н. М. Карамзина «Евгений и Юлия», А. И. Клушина «Несчастный М-в», А. Е. Измайлова «Бедная Маша», Г. П. Каменева «Инна», П. И. Шаликова «Темная роща, или памятник нежности», М. В. Милонова «История бедной Марьи» и другие [4]. Большая часть данных повестей до этого не переиздавалась и не изучалась.
Впервые образ читателя как литературоведческая категория был осмыслен вслед за категорией образа автора-повествователя, который наиболее ярко представлен в сентиментальной прозе. Рождение фигуры сочувствующего повествователя повлекло за собой формирование фигуры чувствительного читателя. А. Я. Кучеров замечает: «Автор становится верным спутником читателя. Интонацией, отступлением, брошенным вскользь замечанием он заставляет все время помнить о себе» [5, с. 108]. Таким образом, автор в сентиментализме изливает свои чувства, что становится возможным благодаря авторским обращениям к читателю.
Сентиментальные повести в русской литературе начинают издаваться с 1772 г. (сказка «Колин и Лиза» неизвестного автора) по 1819 г. («Темная роща, или Памятник нежности» П. И. Шаликова). В конце XVIII в. в России писатель ставил перед собой задачу просвещения людей. По мнению П. Н. Беркова, это был «век исключительно усердного чтения» [6, с. 148]. Другой исследователь сентиментализма Н. Д. Кочеткова акцентирует внимание на характере чтения в этот период: «Чтение на лоне природы, в живописном месте приобретает особую прелесть в глазах “чувствительного человека”», «самый процесс чтения на лоне природы доставляет “чувствительному” человеку эстетическое наслаждение» [7, c. 160–161]. Действительно, природа в сентиментальных повестях фигурирует как спутник наслаждения и любви («Роза и Любим» П. Ю. Львова, «Темная роща, или памятник нежности» П. И. Шаликова, «Евгений и Юлия» Н. М. Карамзина и т. д.).
Образ читателя реализуется к сентиментальных повестях в обращениях автора к читателю, среди которых выделяются явные и скрытые.
В явных, или открытых, обращениях к читателю автор называет своего собеседника и адресата, в скрытых - обращается либо к герою, либо к природе. Рассмотрим некоторые из них.
-
1. Открытое обращение к читателю. В соответствии с эстетикой сентиментализма, в текстах повестей используются такие общие обращения, как невинные сердца («Бойтеся, невинные сердца, искушения обманчивых прелестей, которые развращенные люди часто на себя приемлют...» [Колин и Лиза]), нежные души, чувствительные сердца («…Вам хочу говорить о Марье, вам повествую плачевную историю несчастной ее жизни. Милые красавицы!» [История бедной Марьи]); кроткие, нежные души («...Вы одне знаете цену сих виртуозов, и вам единственно посвящены их бессмертные сочинения. Одна слеза ваша есть для них величайшая награда» [Евгений и Юлия]), друзья меланхолии [Темная роща...].
В большинстве этих произведений под читателем подразумевается юноша или девушка. В более поздних повестях Н. М. Карамзина и А. Е. Измайлова читатель уже не обладает какими-то конкретными признаками возраста или пола, т. е. им мог быть любой человек: читатель («Бедная Лиза» Н. М. Карамзина [8, с. 610]), друзья («Остров Бронгольм» Н. М. Карамзина [8, с. 661]) , чувствительный читатель («Бедная Маша» А. Е. Измайлова).
Опираясь на гипотетическую модель адресата, предложенную исследователем Э. П. Леонтьевым [9, с. 56-58], в состав которой входят такие параметры, как возраст, профессия, образование, место проживания (городской/сельский житель), семейное положение, мы выявили следующие группы конкретных читателей-адресатов в сентиментальных повестях:
-
1) девушки, женщины: «О, женщины ! пол слабый и прелестный!» [Несчастная Лиза]; «Я осмелюсь сказать всем Нинам в свете: “Как бы вы ни были счастливо образованы, но, встречаясь с Эрастами в темной роще, бегите от них, ничего не слушая, ничего не отвечая; остановясь на одну минуту, на одну секунду... вы погибли!”» [Темная роща…], « Вы, которые уже получили то, чего желают девицы , вы, конечно, помните, как приходил к вам жених после сговора» [Бедная Маша];
-
2) старшее поколение: « Несчастные родители ! Вы не примите их в свои объятия, ваша сирая старость лишена подпоры сладостного утешения» [Обитатель предместия];
-
3) дети, юное поколение: «Скажите вы, наслаждающиеся ласками нежной матери , какое чувствование может быть для вас сладостнее того, которое наполняет сердце ваше при ее объятии?» [Обитатель предместия]. Воображаемый адресат может совпадать с реальным: «Молодой человек семнадцати лет желает приобрести себе поскорее в свете некоторое звание; девушка же семнадцати лет желает поскорее выйти замуж» [Бедная Маша].
-
2. Скрытые авторские обращения. В них читатель - это само собой разумеющееся явление, которое не требует доказательства, но которое становится явным при помощи различных синтаксических конструкций. Для обозначения воображаемого читателя писатели-сентименталисты широко использовали следующие приемы:
Были и такие воображаемые читатели, которые не принимали учение о чувствительности, не проникались сочувствие к героям повестей и были склонны к их осуждению. Их можно выделить в отдельную группу - противники автора, не разделяющие его точки зрения: «Жестокие судьи! Жертвы, вами порицаемые, суть блаженны. В чем же их преступление? Разве в том, что они любят друг друга» [Несчастный М-в]; «Бесчеловечные люди! Как худо известно вам, что есть нежное, чувствительное сердце!.. Камень лежит вместо сердца в груди вашей и ваше сожаление о несчастном не иное что, как пустые слова!» [Обитатель предместия]. С помощью таких эмоциональных эпитетов, как жестокий, бесчеловечный, автор стремился воздействовать на тех читателей, для которых естественное чувствительное начало в человеке не было приоритетом.
Риторические вопросы и восклицания с использованием местоимений кто : «Наконец он приехал. Восклицания, восторг, радостные слезы – кто сие описать может?» [Евгений и Юлия]; « Кто может изъяснить, что чувствовала Марья в сию минуту?» [История бедной Маши]; как : «Как можно жить одному! Любить только самого себя! Никому не быть полезну!... Нет, чувствую живо в сердце моем, что человек сотворен для общества: я получаю от него столько выгод!» [Обитатель предместия]; всякий : «Всякий догадается, что он после того благодарил Лизу, и благодарил не столько словами, сколько взорами» [8, с. 609]; все : «Известно всем , что после сего дня, в который застенчивая невеста в первый еще раз прилепляет свои уста к устам того, с кем поменялась кольцами, он имеет право ходить к ней и просить ее поцелуев» [Бедная Маша] и т. д.
Авторы завуалировано обращаются к читателю, вступают с ним в диалог, а иногда даже в спор, пытаясь убедить в своей правоте и истинности происхождения данного события.
Диалог автора с героем - автор обращается к героям, проходящим через определенные сюжетные коллизии, в которых их следует пожалеть или, наоборот, осудить. Используя в обращении к герою эмоциональные эпитеты безрассудный, несчастный, жестокий , автор осуждает героя, но за этим скрываются осуждение и самого читателя, поучение с целью воспитания молодого читателя: «Безрассудный молодой человек! Знаешь ли ты свое сердце?» [8, с. 614]; «Заблуждайся, несчастный ! ... Жестокий! Ты яд вливал в стесняющуюся душу несчастного» [Несчастный М-в]; «Нина, Нина! Ты лучшей участи была достойна! Природа хотела счастия твоего, она дала тебе разум, сердце, Эраста, но ах! бедственный предрассудок человеческий отнял у тебя все дары ее прежде, нежели ты могла воспользоваться ими!» [Темная роща...].
Обман читательских ожиданий - в пределах одного абзаца автор сталкивает две противоположные версии развития сюжета, причем последняя, которую выбирает автор, является для героев и читателей печальной: «Надлежало думать, что сии сердечные Прошения будут иметь счастливые следствия для юной четы, что она будет многолет-ствовать в непрерывном блаженстве, каким только можно смертному на земле сей наслаждаться. Но судьбы всемогущего суть для нас непости- жимая тайна. Пребывая искони верен законам своей премудрости и благости, он творит - мы изумляемся и благоговеем - в вере и молчании благоговеть должны» [Евгений и Юлия]. Автор таким образом готовил читателя к трагическому исходу описываемых событий: «Евгений около вечера почувствовал в себе сильный жар… В девятый день, на самом рассвете, душа Евгениева оставила бренное тело» [Евгений и Юлия].
Из всех сентиментальных повестей конца XVIII - начала XIX в. благополучный финал имела только повесть «Роза и Любим» П. Ю. Львова, которая заканчивалась счастьем влюбленных. Поэтому во всех других сентиментальных повестях автор, давая надежду на счастливый конец, почти сразу же обманывал читательские ожидания, давая характеристику главному герою: «Теперь читатель должен знать, что сей молодой человек, сей Эраст был довольно богатый дворянин, с изрядным разумом и добрым сердцем, добрым от природы, но слабым и ветреным» [8, с. 610], или настраивая читателя на несчастливый финал уже в начале повести: «Но увы, сие спокойствие, сие душевное благо, которым мы гордимся, не что иное, как счастливый миг, возрастают страсти и уносят его на крыльях вихря. Сердце, довольное собою, начинает сокрушаться под бременем горестей, для которых оно сотворено. Сии истины скоро увидим мы в несчастном, чувствительном, пылком М-ве!» [Несчастный М-в].
«Говорящее» название повести , в котором уже заложен авторский намек на трагический финал жизни главного героя: «Бедная Лиза» Н. М. Карамзина, «Несчастный М-в» А. И. Клушина, «Бедная Маша» А. Е. Измайлова, «История бедной Марьи» М. В. Милонова, «Несчастная Лиза» неизвестного автора.
Умолчание событий, разговоров и фактов , которые представляются автору излишними, чтобы приводить их в тексте. Такой прием был рассчитан на догадливого читателя, понимающего все и без авторских описаний: « Всякий догадается , что он после того благодарил Лизу, и благодарил не столько словами, сколько взорами»; «Но я не могу описать всего , что они при сем случае говорили. На другой день надлежало быть последнему свиданию» [8, с. 617]; «Я почитаю за излишнее говорить о том, что девки в сей торжественный день пели свадебные песни…»; «Можно догадаться , скучала ли Маша ходить за своим сыном и питать его своим молоком» [Бедная Маша]. Подобного рода умолчания призваны вызвать в читателе непосредственный эмоциональный отклик.
Элементы композиции: эпиграф к повести, повествовательный зачин, вступление, концовка и другие ключевые моменты в структуре произведения традиционно используются автором-сентименталистом для введения читателя в культурно-исторический контекст сюжетного действия повести. Также в сентиментальных повестях подобные приемы были необходимы для введения читателя в пафос всего произведения: читатель должен был с самого начала проникнуться сочувствием к несчастливой судьбе героя. Неизвестный автор дает установку на правдивость рассказанной им истории в подзаголовке: «Истинное происшествие», а затем в эпиграфе: «Я то писал, что слышал, видел, и нет тут выдумки моей» [Несчастная Лиза]. Далее, в этой же повести, приводят- ся слова эпитафии, адресованные не только читателям современной автору эпохи, но и читателям-потомкам: «Итак, чувствительный! пролей слезу нежности - и тебе предстоит вечное блаженство!». Похожая эпитафия написана на могиле М-ва: «Чувствительное, непорочное сердце! Пролей слезы сожаления о несчастном влюбленном самоубийце» [Несчастный М-в].
В текстах ранних сентиментальных повестей («Колин и Лиза» неизвестного автора, «Роза и Любим» П. Ю. Львова) встречается всего по одному обращению к читателю, которые вслед за В. В. Прозоровым мы называем нейтральной позой автора, так как подобное обращение не несет авторской экспрессии и не вызывает у читателя эмоционального восприятия, например: «Бойтеся, невинные сердца, искушения обманчивых прелестей» [Колин и Лиза].
Начиная с Н. М. Карамзина и его первой повести «Евгений и Юлия», в структуре сентиментального произведения образ читателя начинает использоваться чаще. Автор уже не только рассказывает свою историю, но и постоянно привлекает внимание читателя к различным событиям и идеям. Это было вызвано необходимостью усилить веру читателя во все происходящее в повести.
В повестях, написанных после 1789 г., установка на истинность происшествия в обращении к читателю будет занимать главное место. Так, в повести Н. М. Карамзина «Бедная Лиза» используются такие историко-географические наименования конца XVIII в., как Симонов монастырь, Симонов пруд и т. д. Многие читатели-москвичи легко узнавали место действия повести, о чем есть свидетельство самого писателя: «Близ Симонова монастыря есть пруд, осененный деревьями. <…> Тысячи любопытных ездили и ходили туда искать следов Лизиных» [10, с. 2]. По мнению Т. А. Алпатовой, причиной этому было сознательно созданное автором ощущение реальности посредством прямых обращений к читателю [10, с. 3]. Рассказчик лично видел дом героя («Бедная Лиза»), его могилу («Несчастный М-в», «Несчастная Лиза») и т. д.
Подразумеваемый диалог с читателем. Автор задает читателю вопрос и сам же на него отвечает: «Хотите ли видеть описание моего дома?», - спрашивает рассказчик с целью перехода в описании с одного объекта на другой [Обитатель предместия]; «Кто бы мог ожидать столь ужасной жестокости от невинной, тихой, кроткой Софьи, которая нежно любила М-ва? Все обвиняет ее, но она невинна. Гордый отец решился довести ее до крайности» [Несчастный М-в].
Все описанные авторские обращения, диалоги с героями и читателями в русской сентиментальной повести были направлены на создание иллюзии реальности происходящих событий, на установку интимности эмоционального общения между автором-повествователем и читателем, связей между героем и читателем, на подчеркивание роли и активности читателя, его сопереживания и соучастия героям.
Таким образом, в начальном периоде в русской сентиментальной повести для писателей идеалом чувствительности в большей мере были читатели-девушки, чем юноши. Со временем образ читателя расширяет- ся, утрачивает конкретные признаки и становится ближе образу автора, начинает осознаваться автором как личность, индивидуальность.
Список литературы Образ читателя в русской сентиментальной прозе
- Большакова А.Ю. Образ читателя как литературоведческая категория//Известия РАН. Серия лит. и яз. -2003. -Т. 62, № 2. -С. 17-26.
- Тираспольская А.Ю. Повести Н. М. Карамзина 1790-х годов: (Проблемы повествования): автореф. дис.. канд. филол. наук. -СПб., 2005. -222 с.
- Топоров В.Н. «Бедная Лиза» Карамзина: Опыт прочтения. -М.: Изд. центр Рос. гос. гуманит. ун-та, 1995. -512 с.
- Русская сентиментальная повесть/сост., вступ. ст. и коммент. П.А. Орлова/общ. ред. П.А. Орлова. -М.: Изд-во МГУ, 1979. -336 с. Ссылки на каждую повесть даны: . -URL: http://az.lib.ru/(с указанием имени автора).
- История русской литературы: В 10 т./гл. ред. М.П. Алексеев -М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941-1956. -Т. 5: Литература первой половины XIX века. -Ч. 1. -440 с.
- Берков П. Н. Проблемы исторического развития литератур: статьи/предисл. Д. Лихачева; сост. Н. Кочеткова и Г. Фридлендера. -Л.: Художественная литература, 1981. -494 с.
- Кочеткова Н.Д. Литература русского сентиментализма. -СПб., 1994. -281 с.
- Карамзин Н.М. Избранные сочинения: В 2 т./подг. текста и примеч. П. Беркова. -М. -Л.: Художественная литература, 1964. -Т. 1. -810 с.
- Леонтьев Э.П. Проблема автора и читателя в прозе и публицистике В.М. Шукшина: дис.. канд. филол. наук. -Рубцовск, 2004. -154 c.
- Алпатова Т.А. Повествователь -герои -читатель на страницах повести Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»//Литература в школе. -2002. -№ 7. -С. 2-6.