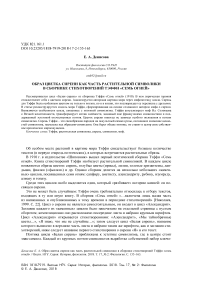Образ цветка сирени как часть растительной символики в сборнике стихотворений Тэффи "Семь огней"
Автор: Денисова Екатерина Андреевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.17, 2018 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается цикл «Белая сирень» из сборника Тэффи «Семь огней» (1910). В нем лирическая героиня отождествляет себя с цветком сирени. Анализируется авторская картина мира через мифопоэтику цикла. Сирень для Тэффи была особенным цветком не только в поэзии, но и в жизни, это подтверждает ее переписка с друзьями. В статье реконструируется модель мира Тэффи, сформированная на основе созданного автором мифа о сирени. Выявляются особенности цикла, связанные с поэтикой символизма. Тэффи актуализирует миф Вл. Соловьева о Вечной женственности, трансформирует мотив знойности, заданный еще французскими символистами и поддержанный эстетикой отечественных поэтов. Цветок сирени никогда не занимал особого положения в поэзии символизма. Сирень Тэффи - это своеобразная пародия на оккультный символ розы, осознанное снижение ценностей символизма, насмешка над образами-символами. Она берет общие мотивы, но ставит в центр свое собственное ироническое мироощущение.
Тэффи, растительная символика, сирень, символизм, миф
Короткий адрес: https://sciup.org/147219900
IDR: 147219900 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.25205/1818-7919-2018-17-2-155-163
Текст научной статьи Образ цветка сирени как часть растительной символики в сборнике стихотворений Тэффи "Семь огней"
Об особом месте растений в картине мира Тэффи свидетельствует большое количество текстов (в первую очередь поэтических), в которых встречаются растительные образы.
В 1910 г. в издательстве «Шиповник» вышел первый поэтический сборник Тэффи «Семь огней». Книга стихотворений Тэффи изобилует растительной символикой. В каждом цикле появляются образы цветов: сирень, голубые цветы (ирисы), лилии, золотые хризантемы, ландыши, фиалки («фьялки») и др. Однако сборник делится на несколько небольших «каменных» циклов, посвященных семи огням: сапфиру, аметисту, александриту, рубину, изумруду, алмазу и топазу.
Среди этих циклов особо выделяется один, который «разбивает» историю камней: он посвящен сирени.
Это не может быть случайным: Тэффи очень требовательно относилась к отбору текстов, входящих в ту или иную книгу. В сборник «Семь огней» «…включена лишь малая часть из написанных и опубликованных к тому времени в периодике стихотворений» [Николаев, 1999. С. 22]. Цикл о сирени не является самостоятельным, он входит в цикл «Александрит». Заглавие каждого из «каменных» циклов было напечатано на отдельной странице с пустым оборотом; композиционно оно расположено посередине листа и набрано крупным шрифтом. Цикл «Александрит» открывается стихотворениями: «Александрит», «Мы тайнобрачные цветы…», «Я знаю, что мы не случайны…»; затем следует цикл «Белая сирень», название которого вынесено в верхнюю часть листа и набрано таким же шрифтом, как и заглавия стихотворений, ниже следует название первого стихотворения о сирени «Я» и его текст.
Поэтика цикла «Белая сирень» приближена к эстетике символизма, где в центре стоит знак-символ. Каждый из крупных поэтов-символистов выработал собственной набор ключе-
Денисова Е. А . Образ цветка сирени как часть растительной символики в сборнике стихотворений Тэффи «семь огней» // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2018. Т. 17, № 2: Филология. С. 155–163.
ISSN 1818-7919. Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2018. Том 17, № 2: Филология
вых слов – «многозначных символов», стремящихся к глубокомысленному расширению и размыванию смысла («антиэмфаза») [Гаспаров, 1993. С. 16]. Новые смыслы могли возникать как из контекстов, заданных самим автором, так и из поля поэтической среды, в которой он находился.
Так, Тэффи выбирает свое слово-символ – сирень. Когда еще только зарождался символизм, для символов обычно выбирали «высокие» слова, позже это стало восприниматься как банальность. М. Л. Гаспаров писал: «Отсюда было два пути: один – в юмористическую поэзию, где многозначительность отсеивалась, и оставался не особенно приглядный богемный быт: по этому пути пошел П. Потемкин; другой – в нагнетание шокирующего безобразия, которое тоже притязало на символическое богатство смысла: отсюда нечисть и похабство в стихах Нарбута, “дохлая луна” и “червивые звезды” у Бурлюка, “запах псины” у Крученых» [Там же. С. 21].
Сирень – нередкое явление в русской литературе. История сирени в русской литературе подробно описана в статье А. Ф. Белоусова «Акклиматизация сирени в русской поэзии» [1992]. Сирень в России стали культивировать в XVIII в. Но в поэзии ее образ не появлялся, так как, по мнению Белоусова, символическое значение цветов в русской поэзии XVIII – начала XIX в. определялось европейской культурной традицией, где сирень не имела поэтического образа. Образ сирени появляется в русской литературе этого времени, но не закрепляется. В 50-е гг. XIX в. происходит перелом: сирень обретает популярность благодаря стихотворению В. Крестовского «Под душистою ветвью сирени», которое знали в первую очередь как популярный городской романс. Сирень стала восприниматься как символ первой любви, что актуализируется и в романе И. Гончарова «Обломов». К 80-м гг. XIX в. образ сирени закрепляется в поэзии, и акцент образа отошел к «сладкому запаху сирени». Однако в поэзии символизма сирень никогда не занимала особого положения, как, например, роза. Но это и не герань, «снижающий» характер которой использовал П. Потемкин. Сирень – нечто среднее между этими двумя крайними точками. Тэффи своим цветком-символом создала лирическую шутку. Сирень становится частью личного мифа, при этом образ этого цветка в общем представлении приближается к быту. Это осознанное снижение символизма, насмешка над образами-символами. Сирень Тэффи – это своеобразная пародия на оккультный символ розы, ведь излишняя поэтизация уже успела надоесть.
Сирень действительно была особенным цветком для Тэффи, об этом говорит ее переписка 1909–1910 гг. с камерной певицей и писательницей Еленой Михайловной Шавровой-Юст (1874–1937). По-видимому, Елена Михайловна часто отправляла вместе с письмами цветы сирени для Тэффи: «Чувствую себя именинницей, сижу, жду деловых людей и любуюсь на любимую Сирень от любимой королевы»; «Дорогая Рэночка! Бесконечно тронута Вашей цветочной лаской!» 1. В одном из писем, жалуясь на свое плохое самочувствие, Тэффи в первую очередь упоминает отцветшую Сирень, тем самым сближая свое состояние с состоянием любимого цветка: «Милая Рене! Сирень отцвела. Больше недели хворала, лежала и злилась. На днях уйду или на юг или на север – ничего среднего не принимаю» 2. Слово «сирень» в письмах Тэффи написано с прописной буквы, независимо от позиции в предложении. Таким образом, Сирень для Тэффи была значимым растением не только в поэзии, но и в жизни.
Цикл о сирени состоит из четырех стихотворений: «Я», «Н. М. Минскому», «Песня о белой сирени», «Он был так зноен, мой прекрасный день...». В этом цикле лирическая героиня отождествляет себя с цветком сирени: «Я – белая сирень…».
Примеры выстраивания представлений о мире при помощи растительных образов встречаются довольно часто. В. Н. Топоров в статье, посвященной модели мира, обращается к мировому древу как к универсальному образу, посредством которого можно отобразить «параметры вселенского пространства и правила ориентации в нем, временные, числовые, этические, генеалогические и иные параметры» [1982. С. 163].
В модели мира Тэффи сирень выступает в образе мирового древа, так как именно она задает параметры и правила. Пространственные оппозиции земля / небо задаются в первом же стихотворении цикла:
Меж небом и землей сквозная светотень…
(«Я») [Тэффи, 1910. С. 31] 3.
Сирень находится между этими двумя пространствами и может переходить из одного в другое:
– В день расцвета радостного лета
Распускалась белая сирень…
(«Песня о белой сирени», с. 33).
Распускается сирень на земле. А с концом дня сирень переходит в небесное пространство:
День угаснет, и уйду я снова
В тени ночи, призрачная тень…
– В снах былого неба золотого
Умирала белая сирень
(«Песня о белой сирени», с. 33).
Этот переход можно увидеть и на уровне рифмы:
|
Рифма |
Название стихотворения |
|
1. Сирень – светотень |
«Я» |
|
2. Сирень – надень |
«Песня о белой сирени» |
|
3. День – сирень |
«Песня о белой сирени» |
|
4. Тень – сирень |
«Песня о белой сирени» |
|
5. День – сирень |
«Он был так зноен мой прекрасный день…» |
Так, можно наблюдать своего рода «путешествие рифмы». В стихотворении «Я» Тэффи демонстрирует единство света и тени с помощью рифмы «сирень – светотень». Затем слово «сирень» рифмуется со словами «надень» и «день». В слове «надень» незримо (как звуко-комплекс) «присутствует» слово «день»: на день . Таким образом, подчеркивается связь сирени со светом. Затем день переходит в тень, т. е. теперь сирень ассоциативно связана с темнотой. Затем снова рифмуется со словом «день». Следует заметить, что слова «тень» и «день» отличаются лишь одной буквой, парными согласными, что делает их еще ближе друг другу. Таким образом, можно заметить неявное присутствие одного слова в другом и их смежность. Значит, сирень – это и свет, и тень, т. е. она способна существовать во всех типах пространства. А объединяя в себе и то, и другое одновременно, она становится общепространственным явлением. У слова «сирень» появляется еще и имплицитная, «смысловая» рифма: в стихотворении «Он был так зноен мой прекрасный день…» слова «сирень» и «любовь» на фонетическом уровне рифмой не являются. Однако рифма существует в визуальном восприятии читателя. Она образуется благодаря общей контекстуальной семантике двух слов:
Он был так зноен, мой прекрасный день!
И два цветка, два вместе расцвели.
И вместе в темный ствол срастались их стебли,
И были два одно! И звали их – сирень!
Я знала трепет звезд, неповторимый вновь!
(Он был так зноен, мой прекрасный день!)
И знала темных снов, последних снов ступень!..
И были два одно! И звали их – любовь!
(«Он был так зноен мой прекрасный день…», с. 34).
Лирическая героиня оказывается медиатором между земным миром и небесным:
Меж небом и землей, сквозная светотень… («Я», с. 31).
Внеземное происхождение героини отсылает к мифу о Софии Вл. Соловьева, где София должна была спустится с небес на землю вместе с рассветом.
Для Вл. Соловьёва София есть «…единство истинное, не противополагающее себя множественности, не исключающее ее, но… всё в себе заключающее» [1911. С. 303–304]. Таким образом, мифопостроение Тэффи связано с идеей Вл. Соловьева о заключении, вбирании в себя:
Я – тысячи цветов в бесслитном сочетанье,
И каждый лепесток – звено одних оков. Мой белый цвет – слиянье всех цветов , И яды всех отрав – мое благоуханье!
(«Я», с. 31).
Складываются отношения: я = множество, т. е. вбирание в себя.
В философии Вл. Соловьева София, как некая сущность, не противополагает себя множественности. Лирическая героиня (сирень) Тэффи делает наоборот: сирень, состоящая из пяти лепестков, противопоставляется остальным «скучным» двулепестковым цветам:
Много, о много, нежных и скучных,
В мире печальном вянет цветов,
Двулепестковых, четносозвучных…
Счастье сирени – в пять лепестков!
(«Н. М. Минскому», с. 32).
Здесь противопоставляется множественность, связанная с парностью («двулепестковых», «четносозвучных»), и единственность в значении индивидуальности. Актуализируется идея единения, заключенная в парности, которая характерна для эстетики Серебряного века, когда сознание ориентируется на религию, духовность, но религию как часть культуры и искусства. Сближение происходит за счет того, что в сфере религии ценна красота, ее эстетическое начало. Культура и искусство же становятся духовной связью между Богом и реальностью. Эти идеи нашли выражение в философии Вяч. Иванова, Н. Бердяева. В. В. Бычков в статье «Эстетика Серебряного века» отмечал, что «истинный художник-символист грядущего, согласно Иванову, должен творчески реализовать в себе связь “с божественным всеединством”, пережить миф как событие личного опыта и затем выразить его в своем мистериальном творчестве» [Бычков, 2007. С. 50].
В стихотворении «Н. М. Минскому» противопоставляется единение и единственность:
Кто понимает ложь единений ,
Горечь слияний , тщетность оков , Тот разгадает счастье сирени – Темное счастье в пять лепестков !
(«Н. М. Минскому», с. 32).
Слова «единение», «слияние», «оковы» противопоставляются сирени с ее пятью лепестками. Слова, объединенные семой ‘единение’, связаны со словами «ложь», «горечь», «тщетность», которые являются контекстуальными антонимами слову «счастье».
Таким образом, лирическая героиня не видит счастья в единении и противопоставляет себя ему.
Однако на протяжении всего цикла наблюдается динамика: завершающее цикл стихотворение «Он был так зноен, мой прекрасный день…» рассказывает о приятии единения. В этом стихотворении мифологический цветок сирени находит себе подобный. Тэффи создает образ, напоминающий Андрогина: два цветка сирени находятся в оппозиции. У них есть общие черты, синхронность развития, в которой формируется взаимосвязь и взаимодействие цвет- ков. Тэффи старается соединить их, это видно по сочетаниям, которые она использует: «два цветка», «два вместе», «вместе <…> срастались». В итоге они оказываются одним целым: «и были два – одно». Два цветка срастаются в одно; это числительное среднего рода. Так можно говорить о появлении универсального объекта.
Кроме того, стихотворение Тэффи построено на семантике противопоставления «один» и «два», подобно циклу Вяч. Иванова «Венок сонетов», где через эти числа реализуются отношения общего и единственного, где два становится одним на некоем космическом уровне:
Мечты одной два трепетных крыла
И два плеча одной склоненной выи…
[Иванов, 1984. С. 415].
Так двум была работой красота
Единая, как мед двойного сота…
[Иванов, 1984. С. 416].
Мы – два в ночи летящих метеора,
Одной судьбы двужалая стрела!
[Иванов, 1984. С. 411].
Стихотворение Тэффи «Он был так зноен мой прекрасный день…», подобно стихотворениям Вяч. Иванова, построено на семантике чисел «один» и «два»: «два цветка», «два вместе», «и были два – одно». Таким образом, в очередной раз становится видна связь творчества Тэффи с символизмом и его основными тенденциями.
Семантика чисел «один» и «два» реализуется также и в графике стихотворения. Две строфы формируют стихотворение как единое целое. Таким образом, числовая семантика выражается не только во внутренней организации, но и во внешних проявлениях – в композиционном приеме.
В поэзии Тэффи наслаиваются друг на друга несколько смысловых пластов. Цикл о сирени входит в «каменный» цикл «Александрит». Александрит – это камень, который также обладает некоторым двойственным началом, он способен менять цвет в зависимости от освещения: днем – изумруд, ночью – рубин. Не случайно Тэффи посвятила свой сборник семи драгоценным камням: писательница действительно увлекалась историей камней, она писала об этом в своих воспоминаниях: «Одно время – это было приблизительно в начале войны – я очень увлекалась камнями. Изучала их, собирала легенды, с ними связанные» [Тэффи, 2011. С. 310]. Двойственность александрита видна у Тэффи в первом же стихотворении, открывающем сборник «Семь огней»:
И бледнеет и горит,
Теша ум игрой запретной,
Обольстит двуцвет заветный,
Лживый сон – Александрит...
Ты, двуцвет, играй! Играй!
Все познай – и грех, и рай!
(«Семь огней», с. 8).
В своих воспоминаниях Тэффи приводит и исторические факты, связанные с этим камнем: «Александрит – удивительный наш уральский камень александрит, найденный в царствование Александра Второго и его именем названный пророчески. Носил в сиянии своем судьбу этого государя: цветущие дни и кровавый закат» [Тэффи, 2011. С. 311]. Таким образом, на личный мифопоэтический мир автора накладывается исторический контекст, а весь цикл является метафорой жизни Александра II. «Цветущие дни» Александра II буквально воплощаются в цветочных образах: сирени, голубых цветов. «Кровавый закат» императора особенно явно воплощен в стихотворении «Песня о белой сирени», где цветок умирает на закате:
День угаснет, и уйду я снова
В тени ночи, призрачная тень...
– В снах былого неба золотого
Умирала белая сирень
(«Песня о белой сирени», с. 33).
В цикле «Белая сирень» Тэффи трансформирует мотив знойного дня, который встречается в поэтике символистов. Например, в стихотворениях «Распалённая зноем июльская ночь...», «Не жаль мне дней ни радостных, ни знойных…» А. Блока, «Знойный день» В. Брюсова знойный день маркирован как особенное событие, связанное с заветным свиданием, появлением девы, затаившейся страстью. Все это отсылает к «соловьевскому» мировоззрению, связанному с воплощением Вечной Красоты как единственного, уникального события, и с явлением Софии. Таково представление символистов, к поэтике Тэффи оно относится косвенно, а не прямо, так как она не только поэт, но и писатель-сатирик. Она скорее сама представит себя Софией, чем будет ждать ее появления вместе с утренней зарей. Героиня Тэффи в стихотворении становится представителем Софии. Она примеряет на себя роль персонажа мифа скорее в игровых, чем в мистических целях. Очевидно, что упоминание о знойном дне – некая игра с уже сформировавшейся традицией. Ее цветы появились в тот самый символистский «знойный день», и она сама отождествляет себя с цветком. Здесь есть некоторая доля шутки: все ждут чуда с Небес, а Тэффи показывает, что она сама как будто и есть это «чудо». И выбирает она не популярный среди символистов цветок – розу, а снижает их космические масштабы и притязания, рассказывая о самом земном и «бытовом» цветке сирени, способном породить «трепет звезд».
В цикле Тэффи «Белая сирень» можно найти и биографический контекст. Весь цикл стихотворений о сирени, можно рассматривать как диалог с поэтом Николаем Максимовичем Минским (1855–1937). Тэффи познакомилась с ним на вечерах у Зои Яковлевой. Позже они вместе работали в газете «Новая Жизнь». Известно было, что между ними завязались романтические отношения. В цикле Тэффи «Белая сирень» встречаются явные переклички с одним из стихотворений Н. Минского «В моей душе любовь восходит…» из цикла «С восточного».
Первое, что обращает на себя внимание в стихотворении Н. Минского, – это упоминание о солнце, которое порождает зной:
В моей душе твой взор холодный
То солнце знойное зажег.
Ах, если б я тем знойным солнцем
Зажечь твой взор холодный мог!
[Минский, 1888. С. 138]
Повторяющееся указательное местоимение ( то , тем ) дает понять, что знойное солнце – это не случайный образ, а вполне конкретный. Стихотворение Н. Минского было написано значительно раньше, чем вышел сборник Тэффи «Семь огней» – в 1880-е гг. Возможно, оно стало источником вдохновения для Тэффи, началом диалога двух поэтов. Мотив зноя, знойного солнца является одним из самых явных и доминирующих в стихотворении «В моей душе любовь восходит…» и цикле Тэффи «Белая сирень».
В стихотворении Н. Минского любовь является причиной появления стройных песен, которые сравниваются с «ароматными цветами». В стихотворении Тэффи «Он был так зноен, мой прекрасный день…», благодаря скрытой рифме также сближаются понятия ‘любовь’ и ‘сирень’ (ароматный цветок).
В стихотворениях двух поэтов можно наблюдать аналогичные оппозиции: у Тэффи – тень / свет , у Н. Минского – холод / зной . Очевидно, что у Тэффи складывается многогранная игра: ее стихотворение – это не только полемика с символистами, но и личный разговор двух поэтов, и метафора жизни императора.
Цикл состоит из четырех стихотворений: первое рассказывает о Ней, второе – о неприятии идеи единения (стихотворение озаглавлено «Н. Минскому», следовательно, второе стихотворение можно воспринимать, как стихотворение для Него и о Нем), третье – о желании сближения, четвертое – принятие единения. Здесь поэт «переживает миф как событие лично- го опыта», реализуя в себе связь с «божественным всеединством», и выражает это в творчестве. Из контекста цикла становится ясным, что два цветка – это конденсат личного опыта автора, в котором мистическая идея всеединства реализуется в истории сращениях двух цветков, заключенной в двух строфах заключительного стихотворения цикла «Он был так зноен, мой прекрасный день...».
Мотив знойности (лета, солнца, аромата) можно найти еще в традиции французских символистов: Верлена, Рембо, Бодлера. Позже его подхватили поэты Серебряного века, переработали и получили новые коннотативные значения. «“Солнце” у Бальмонта (сборник “Будем как солнце”) – символ жизненного, стихийного, неистового, праздничного; “солнце” у Сологуба (“змий, царящий над вселенною”) – символ иссушающего, дурманящего, мертвящего» [Гаспаров, 1993. С. 19]. Подобное происходит и в творческой лаборатории Тэффи: она берет уже известный в культуре материал, накладывает на него свой личный опыт, не забывая добавить иронии, без которой не обходится ни одно из ее сочинений, и, таким образом, строит собственную уникальную картину мира. В этом и есть особенность ее поэзии: бегло взглянув, можно и не заметить, что эти стихотворения не просто лично-интимная лирика, но нечто большее. Тэффи нельзя назвать символистом, но она пользовалась приемами символистов: как и они, она представляла реальность с помощью намека, но при этом она не использовала «пышных» средств выражения. Напротив, ее символы оставались на уровне бытовых вещей, а не становились масштабными мифологемами. Она берет общие мотивы, но в центр ставит свое собственное ироническое мироощущение. Так складывается ее личный миф – «миф о сирени». Тэффи через свой личный и поэтический опыт переосмысляет реальность и тот культурно-литературный контекст, в котором она существовала. Таким образом, появляется новый – и неожиданный – угол зрения, позволяющий прочитать историю и поэтику Серебряного века.
Список литературы Образ цветка сирени как часть растительной символики в сборнике стихотворений Тэффи "Семь огней"
- Белоусов А. Ф. Акклиматизация сирени в русской поэзии//Сборник статей к 70-летию проф. Ю. М. Лотмана. Тарту, 1992. С. 311-322.
- Бычков В. В. Эстетика Серебряного века: пролегомены к систематическому изучению//Вопросы философии. 2007. № 8. С. 47-57.
- Гаспаров М. Л. Поэтика «серебряного века»//Русская поэзия Серебряного века, 1890-1917: Антология/Отв. ред. М. Л. Гаспаров, И. В. Корецкая. М.: Наука, 1993. С. 5-44.
- Иванов Вяч. И. Cor Ardens -часть вторая//Иванов Вяч. И. Собр. соч.: В 4 т. Брюссель: Foyer Oriental Chretien, 1974. Т. 2. С. 393-535.
- Минский Н. М. Стихотворения. Издание второе. СПб.: Тип. В. С. Балашева, 1888. 246 с.
- Николаев Д. Д. Концепция «книги» в творчестве Н. А. Тэффи//Творчество Н. А. Тэффи и русский литературный процесс первой половины ХХ века. М.: Наследие, 1999. С. 20-40.
- Соловьев Вл. С. Россия и Вселенская Церковь/Пер. с фр. Г. А. Рачинского. М.: Путь, 1911. 452 с.
- Топоров В. Н. Модель мира (мифопоэтическая)//Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. М., 1982. Т. 2. С. 161-164.
- Тэффи Н. А. Семь огней. СПб.: Шиповник, 1910. 120 c.
- Тэффи Н. А. Собр. соч.: В 5 т./Сост. И. Владимиров. М.: Книговек, 2011. Т. 5: Земная радуга: Сборник рассказов. Воспоминания. 400 с.