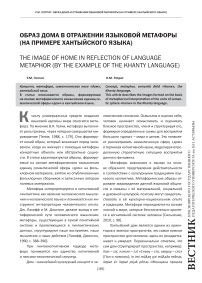Образ дома в отражении языковой метафоры (на примере хантыйского языка)
Автор: Потпот Римма Михайловна
Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu
Рубрика: Научный дебют
Статья в выпуске: 2 (28), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье описываются образы, формируемые на основе метафорического осмысления единиц семантической сферы «дом» в хантыйском языке.
Концепт, метафора, семантическое поле "дом", хантыйский язык
Короткий адрес: https://sciup.org/144153931
IDR: 144153931
Текст научной статьи Образ дома в отражении языковой метафоры (на примере хантыйского языка)
К числу универсальных средств создания языковой картины мира относится метафора. По мнению B.Н. Телия, метафора выполняет роль призмы, через которую совершается ми-ровидение [Телия, 1988, с. 179]. Она формирует некий образ, который возникает перед человеком, когда он именует с помощью метафоры конкретные объекты или абстрактные сущности. В статье характеризуются образы, формируемые на основе метафорического осмысления единиц семантической сферы «дом» на фольклорном материале, взятом из опубликованных фольклорных сборников и записанных автором полевых материалов.
Метафора интерпретируется в когнитивной лингвистике как явление человеческого мышления и человеческого языка и понимается как инструмент интерпретации человеческого опыта. Дж. Лакофф и М. Джонсон делают вывод о метафорической сути человеческого мышления: метафоры, существующие в самой понятийной системе и проявляющиеся в лингвистических данных, структурируют наше восприятие, наше мышление и наши действия [Лакофф, Джонсон, 1990, с. 388–390].
При лингвокогнитивном подходе метафора понимается как единство когнитивной и лексико-семантической структур.
Дом – важнейший культурный концепт в че- ловеческом сознании. Осмыслив и оценив себя, человек начинает осмысливать и оценивать близкое пространство, членя и структурируя его, формируя определенные схемы для восприятия большого «дома» – мира в целом. Это позволяет рассматривать семантическую сферу «дом» в терминах когнитивной науки, моделируя определенную стереотипную ситуацию восприятия данного феномена.
Метафоры возникают в языках на основе образного представления действительности в соответствии с культурными традициями языкового коллектива. Метафорические образы отражают мировидение данной языковой общности и связаны с её материальной, социальной и духовной культурой, поэтому могут свидетельствовать о её культурно-национальном опыте и традициях. Метафоры порождаются на основе знаний о мире, которые бессознательно хранятся в когнитивной системе человека [Сильченко, 2010, с. 98].
Хантыйский дом является одним из ориентиров в земном пространстве, это самое важное пространство для человека: здесь он рождается, живет и умирает. Первоначально отметим, что сам дом структурирует пространство, например: iλən – sɔt, nɔmən – sɔt «Снизу – сто, сверху – сто» (Пол и потолок); in imi mŭλəŋ χɔt mŭλəλa mӑnəs, λapət sir λapət pɔjək pŏnəs «Женщина прошла
m
ВЕСТНИК
в дом, имеющий священный угол, в его священном углу семь молитв сотворила» [Потпот, 2011, с. 13]; ɔwəŋ χɔt ɔwən pŭšsəλən, λipԑŋ χɔt λipija λŏŋsəŋən «В дом, имеющий дверь, дверь отворили, в пространство дома, внутрь вошли»; λŭw jǫra jŭwəntaλən, kimpԑŋ χɔt kimpija χӑś śi tǫλλe «Когда она сильнее становится, чуть не выносит его во внешнюю часть дома, наружу» (ПМА).
Судя по фольклорным источникам, дом оказывает существенное влияние на формирование оппозиции «внутренний / внешний» мир. Поскольку дом образует самостоятельное замкнутое пространство (объем) в пространстве, он начинает восприниматься сам как внутренность пространства, например: λipԑŋ χɔt λipija «внутри дома, имеющего внутреннюю часть (букв.: внутренний дом внутри)», kimpԑŋ χɔt kimpija «снаружи дома, имеющего наружную часть» (букв.: наружный дом наружу). На лексическом уровне это отражается, в частности, в том, что оппозиция «внутри / снаружи» заменяется оппозицией «дома / вне дома (на улице)». В хантыйском языке существуют наречия, которые определяют направление движения в дом, из дома, например: jŏχi «домой», «обратно, назад»; «внутрь»; kim «наружу, на улицу».
Осмысление дома как неотъемлемой части существования человека, наделенного физическими, социальными, культурными смыслами, осуществляется через множество образов, среди которых главное место занимают антропоморфные, зооморфные и артефактоморфные образы.
С одной стороны, дом принадлежит человеку, олицетворяя его вещный мир. С другой – дом связывает человека с внешним миром, «являясь в определенном смысле репликой внешнего мира, уменьшенной до размеров человека. В нем сосуществуют человек и Вселенная. Именно поэтому столь обычны перекодировки между частями человеческого тела, элементами космоса и деталями дома» [Байбурин, 1983, с. 11]. Когнитивная метафора подразумевает восприятие деталей дома через призму человеческого тела. В когнитивной лингвистике область, на которую осуществляется проецирование, называ- ется область-мишень, а область, с которой происходит проецирование, область-источник. Е.А. Потураева обозначает метафору как перенос из области-источника (сферы-донора) в область-мишень (сферу-мишень). Соответственно этому в структуре метафоры как когнитивного феномена вычленяют три компонента: источник метафорического образа (сферу-донор), результирующий образ; сферу-мишень и основание метафорического отождествления; образное представление (признак), на основе которого происходит метафорический перенос, описывает различные связи между ними [Потураева, 2010, с. 59].
В системе метафорических номинаций предстает образ «живого» дома. Так, в загадке чум предстает в образе женщины: λapət χɔr sŏχ ńŭkńeŋ imi χǫs wet ɔŋət λŭw tӑjəλ, kӑt ɔŋət λŭwŋəλ lipaśŋən «Женщина в шубе из шкур семи оленей-самцов, имеет двадцать пять ребер, два из которых свободны» [Соловар, 1997, с. 10], а дом в образе мужчины: jŏtλaŋəλ λijəm ikile sɔt naŋk aλtəλ «Мужчина с истлевшей пяткой сто лиственниц несет»[Немысова, 2006, с. 36].
«Представления человека о самом себе и своем теле оказываются той сферой, которая познана лучше других и может стать основой для образного отождествления» [Васильева, 2013, с. 178]. Структурные части хантыйского дома характеризуются через образы жизненно важных органов для хантыйского человека. В зону метафорического расширения попадают те органы человеческого тела, которые имеют не только важное значение для жизнеобеспечения человека, но и наделяются символическим значением и определенным культурным смыслом: sӑmλi-mŏχəλλi «сердце-печень», λipi «чрево», šӑnš «спина». Спина человека имеет важное значение: нельзя проходить за спиной старшего по возрасту человека и пересекать священное пространство за домом [Соловар, Вылла, 2010, с. 10]. Спину имеет и дом: χɔt šӑnšԑmən śi χӑtśəλλe «спину дома (нашего) ударит» (ПМА), т. е. подаст знак. В загадке: χɔt šӑnša jǫχλəŋ-ńɔλəŋ iki tӑχərtəm «К спине дома подвешен мужчина с луком и стрелами» [Соловар, Морокко, 1997, с. 14] – лук-самострел, висящий на стене дома, описывается по аналогии с его положением на спине мужчины. Сердце воспринимается как центр организма, его жизненная сила, для человека оно имеет жизненно важное значение [Сподина, 2011, с. 163]. Злое существо или насекомое, не имеющее души, называют sӑmλi-mŏχəλλi «без сердца, без печени», поэтому для «живого» дома эти органы важны, а если дом состарился, то о нем говорят: aj weλ'aška ɔmsiλəm śŭrəλ laknəm kӑrəś χɔtԑm, mŏχλəλ laknəm kӑrəś χɔtԑm «Младшим Алексеем построенный, с проваленными балками высокий дом=мой, с провалившейся печенью высокий дом=мой» (ПМА); i ikile ŭŋλəλ wǫna taλ, sӑmλaλ-mŏχəλλaλ χŏλ kӑλλət «Один мужчина рот раскрывает, внутренности (букв.: сердце-печень) все видны» (χɔt λipi «внутренность, чрево дома»), дверь в данном случае метафорически представлена через рот [Соло-вар, Морокко, 1997, с. 10].
В следующей загадке открывание-закрывание двери представлено через разгибание-сгибание локтя: λŏŋλən ki λŏŋa, ԑtλən ki ԑta, kŭnš ɔλŋԑm śi pŭtləλ «Заходишь – так заходи, выходишь – так выходи, локоть=мой продырявится». Ручка двери метафорически представлена через руку человека: sɔt χǫ, śŏrəs χǫ i jɔš «У ста человек, тысячи человек одна рука», т. е. все люди при входе в дом берутся за одну руку – ручку двери [Немысова, 2006, с. 36, 37].
Через образ человека метафорически переосмысляется и очаг. Являясь одним из важных частей дома, хантыйский чувал предстает в образе мужчины и в образе женщины: kim χɔt sŭŋən wǫn tŏrpəŋ jis χǫ λɔλ ' «В углу дома около дверей старец с большими губами стоит»; χɔt sŭŋən kӑrńeŋ imi «В углу дома говорливая женщина»[Соловар, Морокко, 1997, с. 10].
Дом служит связующим звеном между человеком и космосом. В хантыйской загадке о вселенной говорится: χɔt nŭmpi jԑməŋ λŏpas «Высоко над домом священный лабаз», звездное небо осмысляется как священный дом, сфера, расположенная выше дома. Приведем еще пример: χɔt λaŋəλ – pirməŋ tӑχti «Над крышей дома оленья шкура, изъеденная личинками оводов» (звездное небо) [Немысова, 2006, с. 8].
Различные детали дома интерпретируются через вещный мир человека. Дверь и порог, как часть жилища, трактуются символикой границы. Так, порог представляет собой разделительную линию, отделяющую «внутренность» от «наружной части»: in iki śiw ԑtəλ pa, ewλəŋəλ ŏχ tǫp ɔw χɔpən ɔməsəλ, sǫλλaλ pŭt jŭχa jŏwərtəmət «Мужчина приходит туда, только голову падчерицы находит на пороге, и кишки намотаны на палку для подвешивания котла» (ПМА). Порог ɔw χɔp (букв.: двери лодка) и išńi χɔp (букв.: окна лодка) отмечает границу, от которой начинается движение в пространство вне дома, как в нижнем мире – умершие отправляются к морю в лодке, так и в мире людей – на охоту или рыбалку отправляются в лодке.
Окно метафорически интерпретируется через образ лунки и через серебряную монету: ńӑλ sŭŋpi jԑrmak lɔt χɔt λipijən jԑŋkən pɔtλa, kamən ӑnt pɔtλa «Четырехугольная шелковая лунка внутри дома льдом покрывается, снаружи не замерзает» [Немысова, 2006, с. 37]; χɔt pitər śԑl wŏχ «на стене дома серебряная монета» [Соловар, Мо-рокко, 1997, с. 11]. В отличие от осмысления окна как «глаза», «ока» в русской культуре, в хантыйском доме окно предназначалось для освещения, через него не смотрели на улицу.
Дома богов ассоциируются с золотом, деньгами, например: imŏλtijən jiŋk wɔša jŏχətsəŋən, χɔtət ɔməsλət, sɔrńi χɔtət, wŏχ χɔtət, jiŋk χɔtət as ɔw χŏśi ɔməsλət. Śӑλta i χɔta nԑŋən jŏχi wǫχsi: «aśeŋəλam-aŋkeŋəλam χɔt, λӑŋλamən», χǫ jǫχi λӑŋəs: sɔrńi χɔt, wŏχ χɔt «Однажды в водный город прибыли, дома стоят, золотые дома, денежные дома, водные дома стоят в устье Оби. Женщина приглашает его в один из домов: «Дом моих родителей, войдем». Мужчина вошел: золотой дом, богатый дом» (ПМА).
Дом небесного отца Торума также ассоциируется с золотом: tӑkləŋ pŭnəp aj λɔwijeλ λapət tǫrəm nŭmpija, χǫt tǫrəm nŭmpija, aŋkeλ ɔmsəm, aśeλ ɔmsəm ŏšλi wǫλλi sɔrńi χɔta mӑnəλ «Молодой конь со спутавшейся шерстью выше седьмого неба, выше шестого неба, где мать восседает, отец восседает, в бесконечный золотой дом скачет» [Потпот, 2011, с. 33].
ВЕСТНИК
Передние бревна нар хантыйского дома предстают в образе двух ящериц : jǫr sŏsəλŋən jӑχa tǫχəmman, kӑtna śi kŭš wŭratλəŋən, kӑtna ӑnt pitλəŋən «Cцепившиеся вместе две сильные ящерицы пытаются разъединиться, но не могут» [Немысова, 2006, с. 38]. Огонь в чувале предстает в образе рыжей лисицы: jŭχ sӑm χŭwat wŭrti wŏχar χǫχəλ «По сердцевине дерева бежит рыжая лисица» [Соловар, Морокко, 1997, с. 12].
Образ высокого, красивого дома представлен метафорой в облике шеи глухаря; глухарь в хантыйской культуре символизирует покой в доме, он является охранителем сна маленьких детей: tɔwi lŭk sapəλ kӑrəś χɔtԑm, sŭs lŭk sapəλ kӑrəś χɔtԑm «Как шея весеннего глухаря высокий дом=мой, как шея осеннего глухаря высокий дом=мой» (ПМА). Именно поэтому в виде красивого узора он наносится на спинку детской люльки, чтобы выполнять защитную функцию.
Под домом понимается не только само здание, но и люди, населяющие это здание, прежде всего семья, домочадцы. Семья, домочадцы – по-хантыйски χɔt tԑλ jɔχ (букв.: дом наполняющие люди), например: ԑnməm χɔt jɔχλam «Семья, в которой выросла (до замужества)». Семья, а значит и дом, ассоциируется с гнездом: Jepjəm iki χɔt χuśa aj panne saλtəp λant arəλ λawəntḭjəλmԑm. Kӑt pŏšəχ pŏnəm piλijԑm, ӑnt χǫn arijəλtԑm «В доме мужа Ефима вдоволь наедалась густого бульона я из мелких налимов. Как не спою о супруге, давшем мне двух детей (букв.: двух птенцов выведшем друге)» (ПМА). Крышка для закрывания трубы чувала предстает в образе гнезда, жилища птиц: λijəm aŋkəλ šǫp ǫχtijən wɔrš tiχəλ, śiśki tiχəλ ɔməsəλ «На трухлявом пне гнездо коршуна, гнездо синички», kew paj ǫχtijən χɔt pŭŋəλən śak wɔj tiχəλ ɔməsəλ «На куче камней около дома стоит гнездо гуся» [Немысова, 2006, с. 37, 38].
Труба чувала метафорически представлена через образ пня: jeλλi wantijəλ: tŭt sŭλtəm χǫleŋ aŋkəλ šǫp ewəλt kawərəλ «Вперед смотрит: искры из закопченного пня идут» [Потпот, 2011, с. 23].
Образ полного, счастливого дома метафо- рически передается через образ шишки как символа плодородия, зарождения жизни: Alikəp wǫntər ikile nɔχər pӑλat jӑm aj χɔt, nɔχər λŏwat jӑm aj χɔtijԑm nӑŋ pa ɔmsijəλmen «Аликов Андрей мужчина, высотой с шишку хороший маленький дом, величиной с шишку хороший дом=мой ты построил, ты сделал»; ateλt kǫrtəŋ aj mɔńśnԑ, ateλt kɔrtəŋ aj tǫntnԑ karəŋ nɔχər λŏwat aj χɔt, ǫŋχəŋ nɔχər λŏwat aj χɔt naŋk jŭχəŋ, ӑλəŋ ɔwəλ pŭnšəλ, karti nǫrpi kӑt wetra wŭλ pa sɔt wԑs ńijəm ŏwəs asa nik mӑnəλ «Ай Монщнэ, живущая в одиноком селении в домике величиной с шишку, в домике величиной со смолистую шишку, открывает дверь, сделанную из лиственницы, берет с железными дужками два ведра и идет по воду на берег Оби, обрушенный сотней водных чудовищ» (ПМА).
Образ дома бедного человека представлен метафорично через образы песка, снега, льда, мха-земли: sej χɔt, χiš χɔt wǫλti kӑtən «В песчаном доме, в доме из песка живущие двое»; kim ԑtəλ, wantijəλ: sej χɔtən wǫλti, χiš χɔtən wǫλti χǫ, λɔńś χɔtən wǫλti χǫ, jԑŋk χɔtən wǫλti χǫ imi-χiλeλ tŭt pǫsŋəλ śi mŏrt kŭλa jŭwmaλ, wantaλən wǫnti sɔjəŋ ar jŭχ χǫl ewəλt, λŭw mŏj ӑλəm tŭt, λŭw mŏj wŭśiλəm tŭt kӑλ «Вышел (Ялань ики) на улицу, видит: у Ими хилы, живущего в песчаном доме, живущего в снежном доме, живущего в ледяном доме, дым из трубы стал таким густым, видит: между деревьями – огонь, то ли человеком зажженный, то ли (природой) зажженный огонь виден»; pӑsan i pԑləka λɔńś χɔtŋən, jԑŋk χɔtŋən imi-χiλi ɔmsəs, pӑsan i pԑləka λŭw «С одной стороны стола сел снежного дома, ледяного дома Ими-Хилы, с другой стороны стола сел он» [Молданов, 2001, с. 190, 193]; tŭŋkəŋ-mŭwəŋ aj χɔtije ɔməsəλ in apśeλ tӑrəptəm tӑχijən «Стоит на том месте, где она потеряла брата, маленький домик из мха-земли»; tŭŋkəŋ-mŭwəŋ aj χɔtije ɔməsəλ, nӑŋ śiw šaj jańśi wɔχλajən, śiw aλ wŏλija, jeλλi mӑna «Из мха-земли маленький домик стоит, тебя туда чай пить позовут, ты не останавливайся, дальше езжай» (ПМА).
В хантыйском фольклоре через образ дома передаются и другие образы, например: ńӑλ jŏrən χɔt tijλaλ iλλi «Четыре чума (букв.: ненец- ких дома) остриями вниз», вымя коровы предстает в образе четырех чумов. В зависимости от времени года чум накрывают разными шкурами-покрышками, оленьи рога также в зависимости от времени года – то покрыты шерстью, то без шерсти: tӑλa jiλ – tŏnti χɔt, λŭŋa jiλ – ńŭki χɔt «Зима наступит – берестяной дом (чум), лето наступит – меховой дом (чум)». Снасть для ловли рыбы гымга тоже представляется домом: jiŋk iλpi kŭmri χɔt «Под водой шумный дом» [Соловар, Морокко, 1997, с. 6, 14]. Высота волны интерпретируется через образ дома: i wɔt χӑtλəλ λŭw ki wԑrtaλ śŭrəŋ χɔt pӑλat kӑrəś χŏmpəλ χӑlewna λatiλətaλ-ije «Когда ветреный день настанет, на высокие волны высотой с дом сядут чайки». Сорока с длинным хвостом метафорически предстает в образе дома: χɔteλ wan, λԑpŋəλ χŭw «Дом короткий, сени длинные» [Соловар, Морокко, 1997, с. 8].
С домом ассоциируются разные объекты: улей для ос: χǫλəm jaŋ χǫ i χɔtən wǫλλət ( pɔsət ) «Тридцать человек в одном доме живут» (осы); скорлупа для орешка: karti χɔt λipijən i nԑ oməsəλ «В железном доме сидит одна женщина» [Соло-вар, Морокко, 1997, с. 4, 8]; коробок для спичек: χɔteλ aj, i χŏrpi miləŋ jɔχən tԑλijewa «Маленький дом, наполнен одинаковыми в шапках».
Таким образом, хантыйский дом является одним из ориентиров в земном пространстве и сам структурирует это пространство. Метафоры хантыйского языка, позволяющие описать дом в когнитивном плане, отражают символы, свойственные именно хантыйскому мирови-дению. Для культуры хантов свойственно горизонтальное и вертикальное членение дома, что предполагает деление дома на три сферы, из которых более разработана средняя часть – область проживания человека. Образ дома представлен через образ мужчины и женщины, зооморфными символами ящерицы, лисы и глухаря, а также артефактами, отражающими быт хантыйского человека. Границами дома являются порог и окно, которые символизируют движение через образ лодки. Спина дома (задняя часть дома) и верхняя часть дома (крыша) считаются священными.
Список сокращений
ПМА – полевые материалы автора.