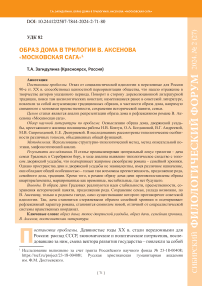Образ дома в трилогии В. Аксенова «Московская сага»
Автор: Загидулина Т.А.
Журнал: Сибирский филологический форум @sibfil
Рубрика: Литературоведение. Русская трикстериада: герои и антигерои в зеркале времени
Статья в выпуске: 2 (27), 2024 года.
Бесплатный доступ
Постановка проблемы. Отказ от социалистической идеологии в переломные для России 90-е гг. ХХ в. способствовал ценностной переориентации общества, что нашло отражение в творчестве авторов указанного периода. Поворот в сторону дореволюционной литературной традиции, поиск там аксиологических констант, наметившиеся ранее в советской литературе, повлекли за собой актуализацию традиционных образов, в частности образа дома, напрямую связанного с мотивами преемственности, сохранения исторической памяти, семьи. Целью статьи является анализ репрезентации образа дома в рефлексивном романе В. Аксенова «Москвоская сага». Обзор научной литературы по проблеме. Осмыслению образа дома, дворянской усадьбы, крестьянского жилища посвящены работы Н.В. Ковтун, О.А. Богдановой, В.Г. Андреевой, М.В. Скороходовой, Е.Е. Дмитриевой. В исследованиях рассмотрены типологические особенности различных топосов, объединенных общей функцией. Методология. Использованы структурно-типологический метод, метод описательной поэтики, мифопоэтический анализ. Результаты исследования. В статье проанализирован центральный локус трилогии - дача семьи Градовых в Серебряном бору, в ходе анализа выявлено типологическое сходство с топосом дворянской усадьбы, что подчеркивает жанровое своеобразие романа - семейной хроники. Однако пространства дачи и дворянской усадьбы не эквивалентны, имея различное назначение, они обладают общей особенностью - только там возможны преемственность, продолжение рода, семейного дела, традиции. Кроме того, в романе образу дома-дачи противопоставлены образы квартиры/комнаты, маркированные как временные, нестабильные, где нет будущего.
Образ дома, топос дворянской усадьбы, образ дачи, семейная хроника, в. аксенов, постсоветская литература
Короткий адрес: https://sciup.org/144163142
IDR: 144163142 | УДК: 82 | DOI: 10.24412/2587-7844-2024-2-71-80
Текст научной статьи Образ дома в трилогии В. Аксенова «Московская сага»
П остановка проблемы. Девяностые годы ХХ в. стали переломными для России: распад СССР, экономические и политические потрясения, последовавшие за ним, смена вектора развития государства – повлекли за собой
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2024. № 2 (27)
актуализацию процесса критической рефлексии, осмысления советского прошлого, попытки оценки опыта существования народа в рамках построения социализма, а также поиск ценностных констант, того, что могло бы способствовать преемственности, уберечь человека от утраты исторической памяти. Одной из таких констант является образ дома, сопряженный с мотивами семьи, рода, традиции.
Обзор научной литературы по проблеме. Топосу жилища (дома, дворянской усадьбы, дачи) посвящено немало исследований, среди которых знаковыми являются работы Н.В. Ковтун [Ковтун, 2007; 2012; 2019], В.Г. Андреевой [Андреева, 2023], серия книг «Русская усадьба в мировом контексте», представляющая собой комплексное исследование «усадебного» текста русской литературы, куда входят аналитические изыскания О.А. Богдановой [Богданова, 2019], М.В. Скороходова [Скороходова, 2020], Е.Е. Дмитриевой [Дмитриева, 2020] и др.
Н.В. Ковтун отмечает, что дом, усадьба – «стержневой образ русской национальной культуры», кроме того, дом «не определяется частным существованием, напротив, парадигма семьи (отец, мать, дети) восходит к парадигме сакральной: Дом Небесный, Отец Небесный – и соотносится с ней» [Ковтун, 2013, с. 18]. Семья и дом – неразрывно связанные сущности. Для авторов советского проекта, однако, характерна интенция к переформатированию традиционных понятий, перестраиванию культуры вокруг другой – большой семьи, не связанной кровными, но соединенной идеологическими узами [Кларк, 1992]. Вопросы статуса семьи как таковой актуализируются в романной трилогии В. Аксенова «Московская сага», созданной в 1991–1992 гг. и впервые опубликованной в 1993–1994 гг. В произведении рассказана история Градовых, на судьбу трех поколений которых пришлись революция, Гражданская война, репрессии, Великая Отечественная война, смерть Сталина. Сюжет охватывает тридцать лет – 20–50-е гг. ХХ в.
В жанровом отношении произведение представляет собой семейную сагу или семейную хронику, отличительной особенностью которой является «движение (смена) поколений в контексте эпох» [Никольский, 2011]. Указанный жанр отличает особый историзм: «крупные события, а порою и реальные исторические деятели, присутствующие в романе, как правило, не интересуют автора сами по себе, но они находят отражение как имеющие значение для данной семьи» [Никольский, 2011]. Трилогия написана на рубеже веков, что позволяет говорить о рефлексивном характере текста: автор совершает попытку осмысления отечественной истории через призму хроники одной семьи. Е.В. Никольский выделяет следующие жанровые признаки семейной саги: линейную хроникальность, семейную проблематику и специфику историзма, все они находят отражение в исследуемом произведении.
-
Н. Лейдерман и М. Липовецкий отмечают, что попытка «создать линейную и однозначную (а точнее, предзаданную, черно-белую) модель исторического процесса, предпринятая Аксеновым <...>, привела к разрушению органического стиля и внезапно отбросила писателя, всю жизнь сражавшегося с наследием тоталитарной идеологии и психологии, назад в лоно соцреалистического “панорамного романа”.
Последний парадокс весьма характерен для гротеска 1970–1990-х гг. <...> гротеск предстает формой диалога с этим (соцреалистическим) дискурсом и даже, больше того, внутренне нацелен на освобождение и обновление утопизма» [Лейдерман, Липовецкий, 2003, с. 161]. Действительно, соцреалистические конструкты в трилогии не подвергаются разрушению, напротив, писатель берет их за основу, однако идеологические акценты расставляет по-своему, в этом смысле роман представляет собой образец построения текста при помощи соцреали-стических кодов, но вне социалистической идеологии, что позволяет говорить о деконструкции дискурса, с одной стороны, и «обновлении утопизма» – с другой. В данной работе мы рассмотрим один из основополагающих топосов русской художественной литературы – топос дома.
Результаты исследования. Образы жилищ встраиваются в систему локусов романа, созданную в координатах, актуализировавшихся еще в советской прозе. В исторической перспективе показана Москва – основное место действия романа и один из любимых топосов Аксенова. Город не случайно фигурирует в тексте как отдельный персонаж: столица СССР находилась в центре ментальной карты советского человека. Однако не только Москва представлена в романах: Колыма, Беларусь, Европа, Америка – все эти места логично вписываются в уже сформированную в соцреалистической литературе ментальную географию. Город населен как вымышленными персонажами, так и реальными историческими деятелями (Сталин, Фрунзе, Берия и др.), что соответствует принципу историзма. Но если в литературе соцреалистического канона пространство центрировалось вокруг Москвы, то в тексте Аксенова, явно дискутирующем с каноном, ключевым топосом становится дача Градовых в Серебряном бору, отсылая к образу дворянской усадьбы. Стоит, однако, отметить, что «в русской литературе ХХ–ХXI вв. именно дача, в силу культурно-исторических обстоятельств потеснившая усадьбу и принявшая на себя ряд ее функций, становится одной из важнейших форм репрезентации художественного пространства» [Богданова, 2022, с. 11]. Благодаря широкому временному и пространственному охвату повествования, у нас есть возможность проанализировать образ дома-дачи и его соотношение с традиционным топосом дворянской усадьбы с тем допущением, что дача в Серебряном бору была родовым гнездом не дворян, а представителей, скорее, разночинского сословия, если использовать дореволюционную терминологию. Старший Борис Градов – потомственный врач, однако по его стопам идет лишь внук, судьба детей определяется эпохой: один из них военный, второй – партийный деятель, третья – поэтесса. Подобное прерывание и возобновление традиции знаково – советский период критически осмысляется Аксеновым и его современниками, пытающимися реконструировать неомиф дворянской усадьбы: «Эту традицию русская постмодерность пыталась не только деконструировать, но и встроить в свою парадигму. Более того, она нередко воспринимала себя прямым продолжением Серебряного века, мгновенным переходом из 1919-го в 1991-й через голову советской эпохи. <...> Новая эпоха принимает культурную эстафету начала XX в., 1910-е гг. смыкаются с 1990-ми,
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2024. № 2 (27)
насильственно прерванная традиция продолжает развиваться с того места, на котором была остановлена» [Богданова, 2019, с. 215]. Дача Градовых, однако, не вписывается в «дачный текст» рубежа XIX–ХХ вв., О. Богданова выделяет конститутивные различия дачного и усадебного топосов, среди которых отсутствие хозяйственной функции у дачи, сезонность дачного проживания, демократичность, внесословность дачи, ориентация на праздность, досуг, заметная разница между социокультурными типами дачника и помещика, в том смысле, что усадьба подразумевает «идеал поместной жизни – дом как большая патриархальная семья, объединяющая кровных родственников и домочадцев (дворовых, слуг, приживальщиков), преемственность поколений, укорененность в историческом прошлом и нацеленность на возделывание наследственной земли», дачный образ жизни, напротив, подразумевает индивидуальный отдых [Богданова, 2022, с. 16]. В Серебряном бору семья профессора живет постоянно, дача становится местом, где объединяется большая семья, однако по мере взросления дети отделяются, обретают собственные жилища, сохраняя тем не менее тесную связь с домом. Не определяется дом в Серебряном бору и советским дачным топосом, который по большому счету актуализируется лишь в середине ХХ в., когда государство начинает массово наделять граждан участками, организуя загородный отдых населения (дом построен незадолго до революции).
Таким образом, в трилогии «Московская сага» представлен образ жилища, который сохраняет в себе некоторые черты дворянской усадьбы, но не наследует ей полностью. Образ дачи в Серебряном бору сопряжен с мотивами семьи, рода, мастерства, передаваемого по наследству. Отказ от родового занятия хронологически совпадает с коренными и оцениваемыми автором негативно государственными преобразованиями, возвращение к истокам (обучение младшего Бориса в медицинском институте) сопряжено с уходом сталинской эпохи. Второе поколение Градовых оказывается исторически лишним, несмотря на парадоксальную встроенность каждого из представителей в конкретную эпоху 20–50-х гг. ХХ в. Ни один из них не остается прикрепленным к родовому гнезду: Никита погибает в конце войны, Кирилл остается на Дальнем Востоке, а Нина бывает на даче лишь гостьей, проживая в современной квартире-студии, которая не имеет потенциала стать родовым гнездом.
Дача объединяет весь клан вне зависимости от времени – дом является той константой, вокруг которой может быть восстановлена нормальная жизнь. Нормальная, по Аксенову, это похожая на ту, что была до революции, не носящая характерных черт советской этики и эстетики. Эта стабильность подчеркивается массой художественных деталей, например образами нестареющей шубы профессора Градова: «Явилась сержантская челядь с личными вещами, в частности, с великолепной, 1913 года, из английского магазина на Кузнецком мосту, шубой, которая, просуществовав сорок лет, не проявляла никаких признаков распада» [Аксенов, 1999], щенка, поразительно похожего на пса Пифагора, прожившего жизнь на даче, постоянными упоминаниями Агашиных пирожков.
Эта же стабильность подчеркивает «отдельное», «островное» положение дачи, в некотором смысле ее уникальность, контрастирующую с судьбами расположенных рядом домов: «– Видишь эту дачу, Ле? Помнишь такого Волкова, из Наркомтяжпрома? Неделю назад его взяли, а дачу поставили под сургуч, предполагается конфискация. А вот эта, <...> здесь жили Ярченко, его ты определенно помнишь, крупный работник Наркомфина <...>. После того как его взяли, семью выбросили в тот же день, дачу заколотили. Вот там <...> та же история: крупный партиец Трифонов…» [Аксенов, 1999]. Стабильность дачи Градовых обусловлена родом деятельности ее владельца – врача, в отличие от представителей разнообразных Нарком- , он не утрачивает право быть внутри традиции, передавать свое мастерство, которое в авторской интерпретации вневременно, а вневре-менность священного знания сопрягается с прикрепленностью к месту, служение людям противопоставляется служению государству.
Дача в Серебряном бору контрастирует с городскими жилищами молодых Градовых: «они получили однокомнатную квартиру <...>. Дом <...> был похож скорее на отель <...>. Все дело в том, что он нацелен был на холостяков…» [Аксенов, 1999]; «Там, в бывших номерах, селились по ордерам партийцы средней руки. <...> По ночам в тридцать седьмом году ковровые купеческие дорожки <...> все-таки приглушали шаги “соответствующих органов”. <...> “Илюша! Илюша!” Ответа не было. На подоконнике она увидела след резиновой подошвы. <...> Илюша, раскидав руки и ноги, недвижно лежал на тротуаре» [Аксенов, 1999]. Образы городских квартир сопряжены с суицидальными мотивами, сюжетом арестов, ощущением постоянного страха, становящегося фоном существования, жители таких квартир постоянно находятся в ожидании конца, так, квартира превращается порой в последнее пристанище. Кроме того, она нестабильна, не может быть передана по наследству, стать постоянным жилищем: пребывание человека на той или иной жилплощади регулирует государство, воплощая принцип паноптизама, описанный М. Фуко [Фуко, 1999]. Ни о какой отдельности и уникальности речи быть не может, это не свое место, прикреплен-ность к нему невозможна. Упоминание И. Бунина, который «почти прикован к постели и живет в своей парижской квартире полузабытый, несмотря на полученную в 1933 году Нобелевскую премию» [Аксенов, 1999], подчеркивает связь художественного пространства романа В. Аксенова с русской литературной традицией и конкретно «усадебным» текстом, функционирующим в прозе И. Бунина, и актуализирует оппозицию «город – деревня», в частности ее аспекты «дом – квартира», «усадьба – квартира», «дача – квартира», где квартира – пространство, не оставляющее возможности преемственности, сохранения памяти.
Статус самого человека в квартире ничтожен: «Ничего более унизительного, чем последние дни в Хабаровске, не случалось в ее жизни. Буквально на следующий день после катастрофы явились из хозуправления и приказали в кратчайший срок очистить квартиру» [Аксенов, 1999], советская фразеология с ее канцелярскими метафорами ставит знак равенства между человеком и грязью, мусором.
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2024. № 2 (27)
Отдельно стоит отметить линию Кирилла, среднего ребенка в семье Градовых, идейного марксиста, преданного партийного деятеля. Кирилл, чуть менее остальных потомков любимый родителями, создает свою семью, состав которой вполне соответствует веяниям времени – «марксист с марксистской женой, их сын, рожденный в восьмилетнем возрасте Митя» [Аксенов, 1999]. К сюжетной линии второго сына Градовых вполне применим тезис о революции, пожирающей своих детей, приписываемый Жоржу Жаку Дантону или Пьеру Вик-тюрниену Верньо [Петрович, Самосонов, 2017, с. 33]. Будучи типичным фанатиком, «верующим» в коммунизм, Кирилл проходит через арест, лагерь, ссылку, что служит толчком к переходу в новую веру – христианство – и трансформации личности героя. В контексте анализа образа дома примечательны места, к которым прикрепляются члены этой ячейки общества: после свадьбы они селятся в доме, который описан в романе следующим образом: «...несколько его коридоров с оставшимися от прежних времен гостиничными зеркалами <...> принадлежали жилфонду ВЦСПС. Там, в бывших номерах, селились по ордерам партийцы средней руки» [Аксенов, 1999]. Гостиница (даже бывшая) – по определению временное жилье, собственно, вскоре после ареста мужа Цецилию выселяют из дома и она вынуждена переехать обратно к отцу, в коммунальную квартиру, образ которой неоднократно становился объектом исследования [Кувшинов, 2016]. Последующие места пребывания Кирилла способствуют формированию нового стержня его личности – смирения. Выморочное пространство покосившегося барака в Магадане, населенного такими же пораженными в правах гражданами, подчеркивает ошибочность целей, которые привели героя отнюдь не к коммунистической утопии. Жильцы барака неполноценны и в общечеловеческом смысле: «Откуда-то со странной монотонностью исходила угроза: “Откушу!” Мужской ли это был голос, женский ли, не понять» [Аксенов, 1999]. В соответствующих эпизодах выстраивается антитеза Магадан – Москва, где первый выступает в роли антипространства: «– Ну тут, как понимаешь, не Москва, – смущенно произнес Кирилл» [Аксенов, 1999]. Символично, что глава, где описан магаданский быт бывшего марксиста, называется «Московские сладости». Линия Кирилла сопряжена также с лагерной темой, жизнь в лагере – апофеоз государственного контроля, но именно здесь герой приходит к вере. Кроме того, приемный сын Цецилии и Кирилла Митя, ребенок раскулаченных родителей, достаточно большую часть жизни проводит в заключении, хотя имеет возможность сбежать. Несмотря на революционное и партийное прошлое, чета Градова и Розенблюм несет на себе отпечаток причастности к даче в Серебряном бору, что подчеркнуто деталью – фотокарточкой, привезенной Цецилией: «Затихает завальный барак <...>. Цецилия же извлекает большую фотографию девятнадцатилетней давности. На веранде в Серебряном Бору после их свадебного обеда. Все в сборе: Бо, и Мэри, и Пулково, и Агаша, и восьмилетний их кулачонок-волчонок Митя, и Нинка с Саввой, и четырехлетний Борька IV, и <...> комдив, и <...> Вероника...» [Аксенов, 1999].
Примечательно, что «кулачонка» Митю влечет к приемным родителям именно воспоминание о большом семейном доме, связанное с ними, в мечтах о будущей жизни он возвращается с возлюбленной в Серебряный бор, а умирать приходит под окна ставших родными людей и в предсмертный миг соединяется с семьей. Других детей у Кирилла не остается, его род прерывается, что знаково в контексте романа.
Выводы. Таким образом, даже несмотря на столкновение обитателей родового гнезда с советской реальностью (арест и возвращение профессора Градо-ва, Вероники), в образе дома реализуются идеи стабильности, преемственности, сохранения исторической памяти, продолжения рода. Даче в Серебряном бору противопоставлены пространства квартир, комнат, которые в романе являются выморочными, необживаемыми, покидаемыми, как правило, навсегда, тотально контролируемыми государством. Именно поэтому сохранение традиции, семьи, уклада возможно, по Аксенову, только в родовом доме, само существование которого реально лишь за пределами советской системы. Так, образ дома-дачи, сохраняя в себе некоторые черты дворянской усадьбы, становится стержневым в трилогии, а также подчеркивает рефлексивный характер романа, его жанровое своеобразие.
Список литературы Образ дома в трилогии В. Аксенова «Московская сага»
- Аксенов В.П. Московская сага. Трилогия. М.: Изограф, 1999.704 с. URL: http:// militera.lib.ru/prose/russian/aksenovl/index.html (дата обращения: 13.05.2024).
- Андреева В.Г. Усадебный мир в романе Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго» II Филологический класс. 2023. № 1. С. 85-96. DOI: 10.51762/1FK-2023-28-01-08
- Богданова O.A. Усадьба и дача в русской литературе XIX-XXI вв.: топика, динамика, мифология: монография. М.: ИМЛИ РАН, 2019. 288 с.
- Богданова O.A. Формирование исследовательского тезауруса при изучении феномена дачи в русской литературе XIX-XXI вв. II Studia Litterarum. 2022. Т. 7,№ 3. С. 10-29. DOI: 10.22455/2500-4247-2022-7-3-10-29
- Дмитриева Е.Е. Литературные замки Европы и русский «усадебный текст» на изломе веков (1880-1930-е гг.). М.: ИМЛИ РАН, 2020. 768 с.
- Кларк К. Сталинский миф о «Великой семье» II Вопросы литературы. 1992. № 1. С. 83-93. URL: https://voplit.ru/article/stalinskij-mif-o-velikoj-seme/ (дата обращения: 13.05.2024).
- Ковтун Н.В. «Гений местности» без места: мифологический сюжет о домовом в современной прозе II Сюжетно-мотивные комплексы русской литературы: монография. Новосибирск: Гео, 2012. С. 166-176.
- Ковтун Н.В. Дом-домовина в поздней прозе В. Распутина. Рассказы 1990-х годов II Русская литература XX века: Философия и игра. Литературные направления и течения в русской литературе XX века: сб. ст. СПб., 2007. Вып. 7. С. 16-29.
- Ковтун Н.В. Иконическая христианская традиция в «Матренином дворе» А. Солженицына и «Избе» В. Распутина: проблема авторского диалога // Филологический класс. 2013. № 3 (33). С. 17-25.
- Ковтун Н.В. «Матренин двор» и его корреляты в современной русской прозе // Филологические науки. Научные доклады высшей школы. 2019. № 1. С. 92-103. DOI: 10.20339/PhS.l-19.092
- Кувшинов Ф.В. Квартирный вопрос в русской литературе 1920-1930-х годов и категория исторического времени // Сибирский филологический журнал. 2016. № 4. С. 93-101.
- Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература: 1950-1990-е годы: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений: в 2 т. М.: Академия, 2003. Т. 2: 1968-1990. 688 с.
- Никольский Е.В. Жанр романа семейной хроники в русской литературе рубежа тысячелетий // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. 2: Филология и искусствоведение. 2011. № 1. С. 29-34. URL: http://vestnik. adygnet.ru/files/2012.1/1644/nikolsky20121.pdf (дата обращения: 22.04.2024).
- Петрович В.Г., Самсонов С.И. Революция пожирает своих детей, или Магический круг чередования революций и реакций (на примере Саратовского Поволжья) II Историческая и социально-образовательная мысль. 2017. № 6. С. 33-41.
- Скороходов М.В. Помещичья усадьба в русской литературе конца XIX - первой трети XX в.: междисциплинарный подход. М.: ИМЛИ РАН, 2020. 272 с.
- Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М.: Ad Marginem, 1999. 479 с.