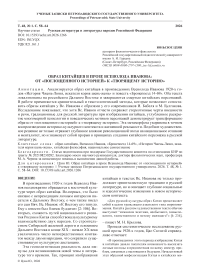Образ китайцев в прозе Всеволода Иванова: от «поглощенного историей» к «творящему историю»
Автор: Цзян Ю.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Русская литература и литературы народов Российской Федерации
Статья в выпуске: 1 т.48, 2026 года.
Бесплатный доступ
Анализируется образ китайцев в произведениях Всеволода Иванова 1920-х годов «История Чжень-Люня, искателя корня шень-жень» и повесть «Бронепоезд 14-69». Оба текста локализованы на российском Дальнем Востоке и завершаются смертью китайских персонажей. В работе применяются сравнительный и текстологический методы, которые позволяют сопоставить образы китайцев у Вс. Иванова с образами у его современников И. Бабеля и М. Булгакова. Исследование показывает, что хотя Вс. Иванов отчасти сохраняет стереотипные черты внешности и речи, традиционные для русской литературы при изображении китайцев, углубленное раскрытие многомерной психологии и поведенческих мотивов персонажей демонстрирует трансформацию образа от «поглощенного историей» к «творящему историю». Эта метаморфоза укоренена в точном воспроизведении историко-культурного контекста и жизненной реальности. Подобное художественное решение не только отражает глубинное влияние революционной эпохи на национальное сознание и менталитет, но и знаменует собой прорыв в принципах создания китайского персонажа в русской литературе.
Образ китайцев, Всеволод Иванов, «Бронепоезд 14-69», «История Чжень-Люня, искателя корня шень-жень», китайская философия, национальное самосознание
Короткий адрес: https://sciup.org/147253018
IDR: 147253018 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.15393/uchz.art.2026.1266
Текст научной статьи Образ китайцев в прозе Всеволода Иванова: от «поглощенного историей» к «творящему историю»
В произведениях 1920-х годов Всеволод Иванов неоднократно обращается к восточной культуре через образ китайца. Во-первых, это было связано с непреходящим личным интересом писателя к Дальнему Востоку, о чем также писал его сын Вяч. Вс. Иванов: «К Востоку его тянуло. Ему с юности был близок буддизм» [2: 506]. Во-вторых, схожесть путей национального развития России и Китая способствовала культурному взаимодействию двух народов. Со строительством Сибирской железной дороги и освоением Дальнего Востока в конце XIX – начале XX века увеличилось число непосредственных контактов между двумя народами, что сократило существовавшую культурную дистанцию.
Эта геополитическая реальность дала импульс для возникновения новой темы в литературе того времени. Так, принцип изображения
китайцев в текстах Вс. Иванова не только продолжает ориенталистскую традицию в русской литературе, но и освещает глубокие социальные и идеологические изменения в новом историческом контексте.
«Для русской культуры образ Китая представляет собой в целом трансляцию азиатского типа миропонимания. Китай в русском художественном тексте обычно выступает “символом экзотики, необычного, замысловатого, таинственного и потому манящего”» [4: 234],
– пишет М. Н. Крылова.
Проведя систематическое исследование русской прозы 1920-х годов, Цао Сюэмэй справедливо отмечает:
«В произведениях этого периода изображение Китая и китайцев давало писателям возможность высказать личные взгляды и предпочтения по всему спектру проблем, связанных с настоящим и будущим. Начался новый этап образной мифологизации Китая и китайских ми- грантов, где далекий восточный сосед и неприметные “ходи” превращались во внушительную мифическую силу, от которой зависело будущее России» [14: 4].
***
Вс. Иванов не мог не учитывать социокультурные тенденции и контекст времени. Очевидно, что в своих текстах писатель сознательно формировал образ китайцев, живущих на Дальнем Востоке, в новой идеологической и исторической ситуации.
Творческий путь Вс. Иванова в полной мере свидетельствует об этой культурной трансформации. Е. А. Папкова отмечает:
«Своеобразие постановки проблемы Восток – Запад в художественном творчестве Вс. Иванова заключается в том, что идеи и образы появлялись в его произведениях в те исторические периоды, когда представители научной, философской, политической и эстетической мысли активно обсуждали эти вопросы» [8: 22].
Это изменение художественного осмысления места и роли Дальнего Востока (и его жителей) в историческом процессе отражается не только в выборе темы, но и в новаторстве повествовательной стратегии – образ китайского народа превращается из культурного символа в непосредственного участника истории. Радикальные исторические преобразования служили реальной основой для этой трансформации. Как подчеркивает Е. А. Папкова:
«Интересно, что если в произведениях конца 1910 – нача ла 1920-х гг., например рассказах Е. И. Замятина “Мамай” и “Пещера” (1920), разрушенным автору представляется Петербург, воплощающий собой цивилизацию Запада, в романе Б. А. Пильняка “Голый год” (1921) – средняя Россия (Москва, Нижний Новгород и город Ордынин), то Иванов распространяет эту мысль на Восток» [6: 18].
Для Вс. Иванова образ Китая, его мифология, философия и культурная память стали интеллектуальным пространством многомерного напряжения, уникальным выбором для исследования целого ряда ключевых оппозиций: революции и традиции, личности и коллектива, прошлого и будущего, Востока и Запада.
Образ китайского народа в текстах Вс. Иванова носит тройственный характер, заключая в себе восприятие его и как носителя другой культуры, и как свидетеля революции, и как символа грядущих перемен. В этом контексте показателен рассказ Вс. Иванова «История Чжень-Люня, искателя корня шень-жень» (1922) о судьбе китайского переселенца Чжень-Люня, который, спасаясь от войны, прибывает на российский Дальний Восток в поисках дикого корня шень-женя. Действие разворачивается в горах Сихотэ-Алинь:
«Теплые горы – Сихотэ-Алинь, как перстень на руке моря. А море за тайгой, а тайга между горами и морем. В тайге тигр и барс и красный волк. А в душных и темных падях – сердце земли – корень шень-жень»1.
Именно здесь, в «душных и темных падях», скрыто «сердце земли» – целебный корень, ставший для героя символом надежды на счастливую жизнь.
Чжень-Люнь приехал на Дальний Восток с целью найти дикий шень-жень, вернуться в Шанхай, купить дом и землю, жениться и завести детей, что, согласно конфуцианству, соответствует традиционному в китайской культуре представлению об идеальном образе жизни в мире и довольстве: «В Шанхае в фанзе можно пить сулею – рисовую водку. Можно курить опиум и рассказывать, как жил в тайге, искал шень-жень» (280).
Образ Чжень-Люня – собирательный, в нем находит отражение культурная и историческая ситуация второй половины XIX века, когда началось активное переселение китайцев в Сибирь и на Дальний Восток. Как отмечал Н. М. Пржевальский, большинство китайцев приезжали лишь на временные заработки, стремясь впоследствии вернуться на родину:
«Эти беглецы находили убежище на территории современного Приморского края. <…> Основная масса китайцев появилась в Приморье в 70–80-х гг. XIX в. Это были китайские отходники, которые шли в пределы России в поисках заработка. Это население не было постоянным. Значительная часть его регулярно мигрировала за границу, как только зарабатывала средства, необходимые для приобретения на родине участка земли» [10: 106].
В рассказе шень-жень наделяется множеством символических значений: это и ценное лекарственное растение, и воплощение колониальной экономики, и, наконец, символ спасения Чжень-Люня. Перед лицом войны, метафорой которой служит священный тигр, образ идеального мира разрушается:
«…Весь город был уголь и травы»; «Кирпичные толстые трубы, где были раньше железные клетки, свалились. От железных клеток уцелела затянутая травами печь» (281).
Самоубийство Чжень-Люня в финале рассказа – это не столько выбор между двумя философскими учениями – конфуцианством и даосизмом, сколько их трагический синтез. Конфуцианская вертикаль (социальный долг) сталкивается с даосской горизонталью (бегство от общества). Смерть героя – одновременно и отказ от «испорченного мира», и попытка сохранить добродетель. Даже способ ухода персонажа из жиз- ни – выстрел в шею – парадоксально сочетает конфуцианский акцент на телесной целостности (где тело – дар предков) и даосский жест освобождения от «оков плоти».
Л. Н. Толстой в 1906 году в «Письме к китайцу» рассуждал о значении русской революции и подчеркивал необходимость для России и Китая противостоять агрессии западных держав с помощью древней восточной мудрости, а не бороться с этим натиском путем насилия:
«Только держитесь свободы, состоящей в следовании разумному пути жизни, то есть Тао <…> Только бы продолжали китайские люди жить так, как они жили прежде, мирной, трудолюбивой, земледельческой жизнью, следуя в поведении основам своих трех религий: конфуцианству, таосизму, буддизму <…> и сами собой исчезнут все те бедствия, от которых они страдают теперь, и никакие силы не одолеют их»2.
Образ Чжень-Люня в рассказе Вс. Иванова отражает настроения части населения России и Китая в условиях реформ и радикальных изменений. Эти люди живут в соответствии с принципами древнекитайской философии, а когда суровая реальность разрушает их традиционный уклад, то неизбежно наступает разочарование. Смерть Чжень-Люня доводит эту двойственность до предела: его самоубийство было одновременно и конфуцианским («Будет ли претворен [мой] Дао-Путь [в стране] – зависит от судьбы3, потерпит ли крах [мой] Дао-Путь [в стране] – зависит от судьбы» [9: 408]), и даосским «слиянием с Дао» (возвращением к природе). Трагедия Чжень-Люня заключается в том, что границы между конфуцианством и даосизмом были стерты войной, что и привело героя к внутреннему душевному расколу. Так, образ Чжень-Люня в итоге стал образом «поглощенного историей».
В рассказе «Ходя» (1923) И. Бабеля, современника Вс. Иванова, также создан образ китайца, который, подобно Чжень-Люню, предстает пассивным объектом исторического процесса. Поздней ночью на Невском проспекте в Петербурге китаец торгуется с проституткой и исчезает во тьме после ночи, проведенной с ней: «Китаец в кожаном проходит мимо. Он поднимает буханку хлеба над головой. Он отмечает голубым ногтем линию на корке. Фунт. Глафира поднимает два пальца. Два фунта»4. Как отмечает А. А. Красноярова: «В рассказе И. Бабеля “Ходя” появлялся апокалиптический персонаж – “китаец в кожаном”, – который представлял частичку картины разрушающегося быта» [3: 147]. Однако ключевое различие между ними заключается в том, что Чжень-Люнь сохраняет приверженность традиционным культурным ценностям своего народа, используя их в качестве философского ориентира для своих поступков, тогда как образ «китайца в кожаном» отражает процесс маргинализации личности во время революции: это и физическое перемещение с родины на чужую землю, и непрерывное смещение по социальной вертикали.
В 1922 году Вс. Иванов снова обращается к образу китайского крестьянина. На этот раз это красноармеец Син Бин-У в повести «Бронепоезд 14-69». В борьбе за захват бронепоезда китайский партизан Син Бин-У совершил героический поступок: он лег на рельсы, чтобы ценой собственной жизни остановить бронепоезд. Образ китайца Син Бин-У, являющийся одним из важнейших в произведении, приобретает особое звучание при сравнении с образом Чжень-Люня: пассивное самоуничтожение Чжень-Люня и активное самопожертвование Син Бин-У выявляют дискурсивную трансформацию образа китайца как литературного героя от «поглощенного историей» к «творящему историю».
Син Бин-У – мирный крестьянин, у него спокойная и счастливая семья:
«У Син Бин-У была жена из фамилии Е, крепкая ман-за5, в манзе крашеный теплый кан6 и за манзой желтые поля гаоляна и чумизы7. А в один день, когда гуси улетели на юг, все исчезло. Только щека оказалась проколота штыком. Син Бин-У читал Ши-цзинь8, плел циновки в город, но бросил Ши-цзинь в колодец, забыл циновки и ушел с русскими по дороге Кун-ци-цзе9» (34–35).
В этом описании и авторских комментариях Вс. Иванов объясняет причины, побудившие героя встать на путь революции, и включает в текст детали, которые дают возможность читателю познакомиться с китайской культурой. Прежняя жизнь, в хаосе настоящего вспоминаемая как идиллия, была разрушена острыми штыками японских солдат. Так, Син Бин-У потерял дом, жену, землю. Глазами Син Бин-У читатель видит разрушение гармонии в сельском Китае с приходом войны и революции. Судьбоносный выбор Син Бин-У – это выбор, с которым сталкиваются герои той эпохи.
С одной стороны, автор демонстрирует классовое родство китайских и русских партизан – союз рабочих и крестьян: «Во время революции многие бедные китайские рабочие (около 30–40 тыс.) вступили в Красную армию и сражались со старым режимом» [5: 190]; с другой стороны, Син Бин-У – носитель философских идей. Он имеет собственное мнение о революции в России, основанное на принципах китайской философии: умеренность и доброта – это явления культуры, а сопротивление – это сила человека.
«А в это время китаец Син Бин-У лежал в траве в тени пробкового дерева и, закрыв раскосые глаза, пел о том, как красный Дракон напал на девушку Чен Хуа. Лицо у девушки было цвета корня женьшеня и пища ее была у-вей-цзы – петушьи гребешки; ма-жу – грибы величиною со зрачок; чжен-цзай-цай. <…> Но красный Дракон взял у девушки Чен Хуа ворота жизни, и тогда родился бунтующий русский» (12).
Песня Син Бин-У также глубоко отражает китайскую культуру, в которой красный дракон занимает важное место, символизируя силу, мужество, трансформацию и боевой дух. Пища девушки приготовлена из ценных трав, используемых в китайской медицине, поэтому сочетание красного дракона и девушки олицетворяет мощную силу сопротивления. Здесь Вс. Иванов использует красного дракона как метафору революции, а судьба Чен Хуа символизирует выбор Син Бин-У. Именно поэтому герой присоединился к партизанам:
«Китаец Син Бин-У, прижимаясь к скале, пропускал мимо себя отряд и каждому мужику со злостью говорил:
– Японса била надо… у-у-ух, как била!
И, широко разводя руками, показывал, как надо бить японца.
Вершинин остановился и сказал Ваське Окороку:
– Японец для нас хуже барсу10. Барс-от, допрежь чем манзу11 жрать, лопатину12 с него сдерет. Дескать, пусть проветрится, а японец-то разбираться не будет – вместе с усями13 слопает.
Китаец обрадовался разговору о себе и пошел с ними рядом» (14).
Син Бин-У играет ключевую роль в победе партизанского отряда. Он успешно добывал важные разведданные о бронепоезде. Справедливо замечание А. А. Забияко и Е. В. Сениной: «Син-Бин-У воюет не раздумывая, он бесстрашный разведчик, который совершенно хладнокровно обманывает допрашивающих его белогвардейцев, прикидываясь торговцем семечками» [1: 71]. И самое главное – Син Бин-У совершил героический поступок, жертвуя жизнью ради общего дела. Когда подходит бронепоезд, Син Бин-У выбирается из-за насыпи, где укрываются партизаны, ложится на рельсы:
«Син Бин-У вынул револьвер, не поднимая головы, махнул рукой, будто желая кинуть в кусты, и вдруг выстрелил себе в затылок. Тело китайца тесно прижалось к рельсам. <…> И труп китайца Син Бин-У, плотно прижавшийся к земле, слушал гулкий перезвон рельс…» (66).
Примечательно, что к образу китайца также обращался М. Булгаков. Образ Сен-Зин-По, героя рассказа «Китайская история» (1923), вступившего в ряды Красной армии, противопоставлен образу Син Бин-У. И. С. Урюпин, анализируя китайские тексты в русской литературе 1920-х годов, отмечает, что Вс. Иванов и М. Булгаков создали архетипические образы китайских революционеров:
«Революционный радикализм китайских бойцов Красной Армии, принимавший своеобразную форму жертвенного протеста, в точности воспроизвели и Булгаков, и Иванов, отразив особое мироощущение народов Китая» [12: 134].
При создании китайских персонажей М. Булгаков и Вс. Иванов демонстрируют общность в описании внешности героев: раскосые глаза, желтая кожа и плохое знание русского языка в обоих текстах создают образ китайца – представителя другой культуры. Одновременно писатели подчеркивают выдающиеся качества, проявленные персонажами в бою (Син Бин-У удалось получить информацию о бронепоезде; Сен-Зин-По продемонстрировал чрезвычайно точную стрельбу), и трагически завершают судьбы героев. Однако при анализе текстов становится ясно, что за этими поверхностными сходствами скрывается принципиально различный подход к изображению самосознания героев.
Син Бин-У, движимый ненавистью к врагам, добровольно вступил в партизанский отряд, имея четкое понимание революционных идеалов. Он успешно уничтожил нескольких японцев и в итоге героически погиб, обеспечивая стратегическую победу партизан. Ходя же, из-за наличия слова «красный» в его ограниченном словарном запасе, случайно присоединился к Красной армии. Его имя было ошибочно зарегистрировано как Сен-Зин-По. Благодаря выдающимся снайперским способностям он был отобран в боевой отряд, где храбро сражался, мотивированный статусом стрелка и возможностью получить денежное вознаграждение. Но он так и не смог понять принципиальной разницы между Красной и Белой армиями, различая врагов и своих лишь по цвету формы, и погиб от вражеского штыка в первом же бою.
«И гигантский медно-красный юнкер ударил его, тяжко размахнувшись штыком, в горло, так, что перебил ему позвоночный столб. <…> И ходя, безбольный и спокойный, с примерзшей к лицу улыбкой, не слышал, как юнкера кололи его штыками»14.
Судьба и выбор Сен-Зин-По полны случайностей и неосознанности. И. С. Урюпин замечает:
«Бессознательная (неосознанная) революционность китайских иммигрантов после октябрьских событий 1917 г. в России обернулась революционностью “без сознательной” (бездумно-жестокой и бессмысленной). Это очень хорошо почувствовал М. А. Булгаков, показавший в рассказе “Китайская история” (1923) трагедию “настоящего шафранного представителя Небесной империи”, ставшего в большевистской Москве орудием Революции и ее жертвой» [12: 133–134].
Подход Вс. Иванова к описанию «другого» сохраняет эстетическую дистанцию в изображении представителя иной культуры, одновременно находя точки соприкосновения благодаря вечным человеческим ценностям. По мнению Р. М. Ха-ниновой, «интерес к Востоку, особенно к буддийской философии и культуре, Всеволод Иванов сохранил с юности до конца своей жизни» [13: 78]. Взаимосвязь русской и китайской культур 1920-х годов и схожие судьбы порождают новый образ героя, сочетающий историческую правду с художественной достоверностью. Образ Син Бин-У воплощает духовную сущность китайского народа, соединяя в себе как следование традициям в повседневной жизни, так и постижение высшей истины. Цао Сюэмэй отмечает:
«“Красный” китаец Син Бин-У, в прошлом крестьянин, не утрачивает своей мудрости. Она лишь находит себе иное проявление. <…> Показ мировоззрения китайца, воспитанного традиционной философской мыслью, позволяет перенести размышление о войне из общеидеологической сферы в сферу духовную» [15: 56–57].
Добровольное вступление Син Бин-У в партизанский отряд после уничтожения родного дома представляет собой осмысленное решение, а образ китайца у М. Булгакова воплощает неосознанный выбор личности в эпоху революций.
Как справедливо отмечает И. С. Урюпин:
«Ходя – тип героя-скитальца – беженца, отправляющегося на чужбину в поисках лучшей доли (к этому типу в полной мере относится и ходя Сен-Зин-По из булгаковской “Китайской истории”)» [12: 135].
Таким образом, Син Бин-У становится героем, «творящим историю», тогда как Сен-Зен-По превращается в инструмент революции.
Китайский переводчик Дай Ваньшу высоко оценивает сцену самопожертвования Син Бин-У в повести:
«Этот эпизод имеет большую роль как в развитии действия, так и в композиции повести. Син Бин-У был иностранцем, но стал родным братом русских. Он пожертвовал своей жизнью ради общего дела – настолько велика была сила интернационального движения (перевод наш. – Ю. Ц. )» [16: 3].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Актуализация образа китайцев в русской литературе 1920-х годов и поиск новых философ- ско-художественных решений обладают глубо -ким историко-культурным значением. Данный процесс был обусловлен сходством исторических траекторий России и Китая после Октябрьской революции. Обе страны столкнулись не только с общими вызовами революционной трансформации, но и переживали сходную дилемму между сохранением традиций и необходимостью обновления. Это ощущение экзистенциальной общности судеб побудило российских писателей обратиться к китайской теме в попытке увидеть в восточном соседе отражение собственной ситуации и перспектив. Как отмечает К. Ф. Пчелинцева:
«Китай все более втягивается в глобальную проблему Россия – Восток – Запад. Это уже не далекая экзотическая страна с непонятными традициями, а вполне реальное государство на Дальнем Востоке, судьбы которого переплетаются с судьбами России» [11: 162].
В отличие от И. Бабеля и М. Булгакова, чьи образы китайцев нередко предстают в качестве обобщенных революционных символов («Ходя»), Вс. Иванов, опираясь на традиционную китайскую философию и исторические реалии Дальнего Востока начала XX века, создал многомерные образы Чжень-Люня и Син Бин-У, наделенные психологической глубиной и сложностью поведенческих мотивов. Поместив китайского персонажа в центр философско-исторической рефлексии, Вс. Иванов осуществил художественную реконструкцию и новое осмысление культуры «Другого» в период исторической трансформации. По точному замечанию Е. А. Папковой, Вс. Иванов «склонен искать в древних культурах Востока те духовные ценности, которые сохранят человечество на его гибельном пути» [7: 88]. Судьба героев в текстах Вс. Иванова, с одной стороны, детерминирована окружающей действительностью, а с другой – демонстрирует пробуждение личностного сознания. Духовный кризис Чжень-Люня, вызванный распадом традиционного уклада, предстает не только как личная трагедия, но и как отражение поиска ценностных ориентиров обычным человеком в эпоху социокультурного перелома. Кажущееся идеалистическим самопожертвование Син Бин-У в действительности заключает в себе попытку экзистенциального постижения смысла жизни. Подобная рефлексия о жизни и смерти выходит за рамки революционной риторики, разворачивая на экзистенциальном уровне диалог между личным выбором и историческим процессом.
Таким образом, проза Вс. Иванова не только расширяет «китайский текст» в русской литературе, но и предлагает в лице Чжень-Люня и Син Бин-У уникальный историко-художественный материал для исследования культурных образов «Другого» в новом историческом контексте.