Образ лебедя в традиционном мировоззрении бурят
Автор: Бадмаев А.А.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Этнография народов Евразии
Статья в выпуске: 3 т.24, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье дана характеристика образа лебедя в традиционном мировоззрении бурят. Выяснено, что в народных представлениях бурят образ лебедя полисемантичен и наделен положительной коннотацией. Анализ лексики показывает, что буряты обращали внимание на такие биологические признаки лебедя, как его размеры, окрас оперенья, голос. Тотемный культ этой птицы проявлялся в выполнении обряда почитания, в табу на ее убийство и употребление в пищу ее мяса. Лебедь был инкорпорирован в дарообменные практики бурят. Выделено, что в символике лебедя особое значение придавали белому цвету оперенья. Эта птица наделялась небесной, солярной, водной природой и женским началом. С ее образом связаны идеи небесной благодати и благоденствия, мотив оборотничества. Нарушение ее полета воспринимали как знак грозящей беды и болезни. Она выступала вестником высших сил, наступления лета и зимы. В шаманской поэзии бурят она предстает ездовым животным шамана, его духом-помощником.
Этнография, фольклор, лексика, буряты, мифологические воззрения, лебедь
Короткий адрес: https://sciup.org/147247956
IDR: 147247956 | УДК: 398’54 | DOI: 10.25205/1818-7919-2025-24-3-140-149
Текст научной статьи Образ лебедя в традиционном мировоззрении бурят
,
,
Purpose . The purpose of the study is to characterize the image of a swan in the traditional worldview of the Buryats.
Results . The first part of the study examines the Buryat lexical data on the swan.
It has been established that the Buryat language reflects such biological features of the bird in question as its size, the color of its feathers, and its voice.
The second part of the article highlights the relics of the totemic cult of the swan among the Buryats.
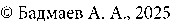
It turned out that this cult, inherent in part of the Buryats, was associated with the effect of taboos on killing this bird and eating its meat, with the performance of a rite of worship in spring and autumn during its migration. At the same time, her murder was allowed only for the purpose of gift exchange.
In the third part of the work, the symbolism of the swan is highlighted on the basis of the mythological views of the Buryats.
It was revealed that in the representations of the Buryats, the white color of the operculum indicated its connection with the bright celestial forces. It is determined that this bird was endowed with celestial, solar, and aquatic symbols. It is shown that she had a feminine nature. This representative of the avifauna was associated with the ideas of heavenly grace and prosperity, and the motif of werewolfism. A sign of trouble and illness for people was perceived as a violation of its flight over the living space. It was believed that the swan is the messenger of higher powers, summer and winter. In the shamanic poetics of the Buryats, he was considered as a shaman’s mount and an assistant spirit.
Conclusion . The study shows that in the traditional worldview of the Buryats, the image of a swan has a positive connotation and is ambiguous.
Acknowledgements
The study was conducted within the framework of the research project of the IAET SB RAS no. FWZG-2025-0003 “Ethnocultural and ethnosocial processes among the peoples of Siberia and the Far East in the 17th – 21st centuries: formation and dynamics”
Одним из распространенных орнитоморфных образов в традиционном мировоззрении народов Евразии и Северной Америки является образ лебедя. Данная водоплавающая птица связана с различными божествами, солнцем, символизирует поэта, возрождение, чистоту, целомудрие, гордое одиночество, мудрость, пророческие способности, смерть и др. Иногда это пернатое выступает в качестве тотема, вестника весны и тепла [Мифы народов мира, 1980, с. 578–579].
Почитание лебедя населением Юго-Восточной Сибири прослеживается с палеолитического времени (находки нательных амулетов или украшений в виде лебедя с поселений Мальта и Буреть (Предбайкалье)) и имеет продолжение в последующие эпохи [Дугаров, 1983, с. 106]. В определенном смысле буряты наследовали эту традицию. Исследования отечественных авторов (Г. Р. Галдановой [1987], Д. С. Дугарова [1983; 1991] и др.) доказывают существование культа лебедя у бурят, отмечают проявление образа этой птицы в отдельных элементах их традиционной культуры (в орнаменте женского костюма, песенно-танцевальной культуре, музыкальном инструментарии и т. п.). Однако этот орнитоморфный образ еще не получил цельного освещения на материале мифологических представлений бурят. Настоящее изыскание нацелено на характеристику образа лебедя в традиционном мировоззрении бурят. Согласно этому определены следующие задачи исследования: рассмотреть языковые сведения об этой птице; охарактеризовать тотемный культ лебедя у бурят; выявить символику этого пернатого. Работа опирается на фольклорные, лингвистические и этнографические источники.
В исследовании применяется преимущественно структурно-семиотический метод, позволяющий выделить символику, отражающую идеи о лебеде.
В весенний период на территорию Юго-Восточной Сибири мигрируют различные водоплавающие птицы, в том числе лебеди-кликуны ( Cygnus cygnus ). Они обычно гнездятся на Байкале, в прибрежных водоемах, а также в степной и таежной зонах Забайкалья, Прибайкалья и Предбайкалья, на озерах, имеющих высокую растительность. Наблюдая за этими крупными грациозными птицами, буряты составили представление об их биологических чертах, которое нашло отражение в образе лебедя в их традиционном мировоззрении.
В бурятском языке имеются следующие названия этой птицы: хун ‘лебедь’; хун шубуун ‘лебедь’; сагаан шубуун ‘букв. белая птица, лебедь’ [БРС, 2010, т. 2, с. 466]. Гендерное деление лебедя передают такие термины, как хун шубуун ‘лебедь’ и сэн шубуун ‘лебедица’.
Сравнение бурятских наименований этой водоплавающей птицы с орнитонимами у других монгольских народов показывает, что слова хун и сагаан шубуун имеют общемонгольское происхождение: монг. хун ‘лебедь’, хун цаган шувуу ‘лебедь’ [БАМРС, 2001–2002, с. 1403]; калм. хун ‘лебедь’, хунла эдл цаhан ‘белый как лебедь’ [КРС, 1977, с. 609]; дарх. хунг ‘лебедь’ [Потанин, 1883, с. 163]. Правда, у части монгольских этнических групп встречаются собственные номинации, например у дагуров: хоршеел ‘лебедь’ [КДРС, 2014, с. 188].
Что касается этимологии хун , то Д. С. Дугаров, возводит это слово к тюркскому кун ‘солнце’ и считает, что бурятское название лебедя – хун шубуун в буквальном переводе означает «солнце-птица» или «солнечная птица» [Дугаров, 1991, с. 60]. Учитывая общемонгольский характер этого термина, представляется странным искать его корни в тюркских, а не в монгольских языках. Между тем отечественные тюркологи доказывают, что общетюркское название лебедя kogy ‘лебедь’ восходит к древнетюркскому quyu ‘лебедь’ и производно от крика этого пернатого или от цвета его оперенья [Бурнаков, 2022, с. 864], т. е. от одного из его биологических признаков. Поэтому генезис слова хун , на наш взгляд, следует выводить из монгольской лексики, например, от известного у основных монгольских народов эпитета, передающего размеры и статус птицы: хун ‘большой, великий, могучий’. Кстати, такая версия согласуется и с обозначением самца лебедя – хун шубуун , который крупнее и сильнее самки.
Второе название лебедя у бурят, сагаан шубуун , указывает на белый окрас оперенья у взрослой птицы. У тюрко-монгольских этнических групп белый цвет символизирует чистоту и священность, таким образом, эта номинация также передает сакральный характер данного представителя орнитофауны.
Выясним этимологию наименований самки лебедя у бурят и монголов (монг. хун цэн ‘ле-бедица’ [БАМРС, 2001–2002, с. 1403]). Вполне резонно предположить, что в них сэн / цэн – это эпитет: действительно, в бурятском языке есть слово сэн ‘ценный, дорогой’ [БРС, 2010, т. 2, с. 209]. Отсюда буквальный перевод этих названий будет «ценная / дорогая птица», что подчеркивает сложившийся в мифологии монгольских народов пиетет к лебедю.
У кударинских бурят локальное распространение имеют такие номинации данной птицы, как ехэ шубуун ‘великая птица’ и бурхан шубуун ‘божья птица’ (ПМА). Обычно под ехэ шу-буун буряты-шаманисты подразумевают орла, точнее белохвостого орлана, а в языке пред-байкальских бурят бурхан шубуун – ‘голубь’ (вероятно, это было следствием православной христианизации данной части бурят). Семантика упомянутых выше терминов у кударинских бурят, которые в XIX в. в большинстве своем оставались убежденными шаманистами, оказывается иной, чем у остальных бурят предбайкальских родов. Очевидно, они, используя указанные выше эпитеты, особо выделяли лебедя в ряду других сакральных птиц. Определенная аналогия прослеживается у вепсов: последние полагали, что эта водоплавающая птица – «Божья птица», что, по И. Ю. Винокуровой [2007, с. 74], свидетельствует о тотемистических истоках такого почитания.
Наконец, буряты отмечали крик, издаваемый лебедем: хун шубуун ганганана ‘лебедь кличет’ [БРС, 2010, т. 2, с. 466]. Вспомним, что лебедя-кликуна как раз отличает громкий голос, хорошо слышимый в небе во время его перелета.
Итак, в бурятской лексике получили отражение такие зоологические черты рассматриваемой птицы, как ее размеры, цвет оперенья и голос. Приведенные выше языковые данные определенно говорят о почитании ее. В этой связи следует осветить тотемный характер образа лебедя у бурят.
Генеалогические легенды у части бурятских этнических сообществ – хори-бурят, хонго-доров, шошолоков и хангинов – повествуют о лебеде как тотеме. Хрестоматийным является сказание о прародителе хори-бурят Хоридое Мэргэне, женившемся на небесной деве, оборачивающейся в лебедицу, которая родила ему 13 детей (из них 11 сыновей, впоследствии ставших основателями отдельных хори-бурятских родов). Об орнитоморфности образа пра- матери упомянутых выше бурят говорит ее имя – Хобоши хатун ‘Царица Лебедь’, которое исследователи возводят к тюрк. хуба ‘лебедь’ [Румянцев, 1962, с. 163].
Эта легендарная линия родства получила отражение в шаманской поэзии, в которой, в частности, указывается, что некоторые мифические персонажи происходят от лебедя. В качестве примера можно привести шаманское призывание кударинских бурят к духу-хозяину местности Фофонова:
Хун шубуун гарбали
Хори монгол удхатай .
Хажуудха ханинь
Хаан ехэ нyхэрынь
(ПМА).
Происхождение от лебедя
Родом из хори-монголов.
Рядом с ним
Правитель его большой друг.
(Перевод наш. – А. Б .).
Из литературы известно, что культ данной птицы проявлялся в совершаемом бурятками обряде брызгания молоком, которое считается сакральным продуктом, вслед пролетавшим лебедям и в запрете на их убийство. Последнее закрепилось, в частности, в следующей словесной формуле:
Сэн шибун сэрыл ( Сэн шубуун сээрэл ),
Хонг шибун хорил ( Хун шубуун хорил )
[Потанин, 1883, с. 108].
Лебедицу [убивать] запрет,
Лебедя [убивать] запрет
(Перевод наш. – А. Б .).
Это табу было избирательным и относилось к лебедям с красными лапками, которые якобы являются дочерями неба, и за их смерть ожидало неминуемое наказание свыше [Там же, с. 25]. Однако в природе лебедь-кликун имеет черные лапки, и относительно него все обстояло иначе: «Лебедь с серыми (черными. – Авт. ) ногами, это – та жена шамана, которой он (Хоридой. – Авт. ) замарал ноги глиной; она земная, и потому ее не так опасно убить» [Там же]. В другом варианте легенды Хоридой схватил за ноги взлетающую ввысь супругу-лебедя руками, запачканными сажей, отчего, как полагают, лебединые лапки стали черными. Вероятно, в первоначальный запрет со временем было внесено допущение, а сюжет об «осквернении» небесной девы-лебедя глиной / сажей служил, чтобы оправдать его.
Но, если утиная охота имела у бурят ограниченное распространение, то промысел лебедя был для них исключительным событием. Мясо данной птицы не употреблялось в пищу, поэтому причина охоты на нее, как и в случае с другими народами, была связана с дарообмен-ными практиками [Бурнаков, 2022, с. 868], когда осуществлялся обмен ее тушки на верхового коня [Бадмаев, 2020, с. 108].
Запрет на убийство лебедя действовал и у других монгольских народов, например, он соблюдался у халха [Потанин, 1881, с. 98].
Отметим, что в отличие от народов, которые верили в способность лебедя проклясть убийцу своего брачного партнера, буряты ожидали кару за такой проступок от небесного покровителя этого пернатого. В зависимости от принадлежности к тому или иному этническому объединению буряты персонифицировали его то с небесным владыкой Заяан Сагаан тэн-гри ‘Творец Белый небожитель’ или Эзэн Сагаан гарбал ‘Хозяин Белый прародитель’, то с божеством солнца Шара Хасар тэнгри ‘Желтощекий небожитель’. Верили, что небесная дева-лебедь является дочерью такого могущественного небожителя, которого в бурятских сказках зачастую не конкретизируют: в частности, в сказке «Молодец и его жена-лебедь» матерью девицы-лебедя оказывается некая небесная женщина, а ее отец даже не упоминается [Бурятские волшебные сказки, 1993, с. 49–50]. Хронологически эти представления должны были сложиться позже, чем воззрения о проклятии, якобы непосредственно исходящим от птицы. Добавим, что в бурятском фольклоре линия лебедя как парной птицы не получила развитие, а это обстоятельство само по себе исключает идею о проклинающем пернатом.
Ритуальное брызганье молоком, совершаемое бурятами, почитавшими это тотемное животное, производилось весной (в апреле - начале мая) и осенью (в сентябре-октябре), когда происходила миграция лебедей. Заметим, что данный обряд (именуемый далга абалга ‘приманивание богатства, счастья’ или хэшэг хурылха ‘получение небесной благодати’ [Дугаров, 1991, с. 148]) в точности повторяли те группы бурят, которые признавали своим тотемом дикого гуся. Вероятно, это было обусловлено известной заместимостью образов лебедя и гуся в культуре бурят: например, в шаманских призываниях хангинов орнитоморфный образ их прародительницы нередко описывается неоднозначно, и его можно трактовать и как лебедя, и как дикого гуся.
Молоко как ритуальный напиток использовалось в ходе шаманских мистерий, посвященных западным, добрым небожителям, поэтому очевидна связь указанных выше водоплавающих с ними. А это позволяет утверждать о наделении образов обеих птиц положительной коннотацией.
Из изложенного выше можно заключить, что в традиционном мировоззрении бурят рассматриваемая птица несла небесную символику (как дочь небесного божества), что относится ко всем пернатым, сферой обитания которых является воздушное пространство.
Второе, что можно утверждать, - это солнечная природа лебедя опять-таки вследствие упоминания о нем как о дочери солнца в легендах и сказках. К этому выводу приходили и наши предшественники, в частности, Д. С. Дугаров пишет, что в шаманских призываниях мифическая лебедь-прародительница хори-бурят и хонгодоров именуется Налхан Юурэн эхэ ‘Светлая мать Нал’, которая связывается с дневным светилом [Дугаров, 1991, с. 60].
Данная птица ассоциировалась также с водной стихией, что объяснимо ее обычной жизнью на водоемах. В бурятских сказках и легендах она также локализована, как правило, на озере.
Белое оперенье птицы, в соответствии с традиционными воззрениями бурят, свидетельствует о покровительстве добрых небожителей Западного неба. Кроме того, о сакральности белого цвета в культуре бурят сообщалось выше.
Образ лебедя у бурят, несомненно, наделялся женским началом. Это подтверждают как генеалогические легенды, так и эпика, и сказки бурят. Так, в сказании «Алтан Шагай мыр-ген» говорится: «...в это время прилетают и садятся у дымового отверстия (урхэ дэрэнь) три лебедя; снявши крылья и превратившись в трех хорошеньких девушек, входят в юрту» [Сказания бурят., 1890, с. 15]. Здесь любопытен повторяющийся в бурятском фольклоре образ трех небесных дев-лебедей (для примера, предок хори-бурят Хоридой похищает лебяжье одеяние (или только крылья, вероятно, акцент делается на них как на отличительной черте птицы) у одной из таких девиц). Определенная параллель ему напрашивается в образе трех сестер - небесных кукушек эпического героя Гэсэра, дочерей главы западных божеств. Как видим, объединяет эти орнитоморфные образы не только их женская сущность, но и связь со светлыми небесными силами.
Судя по материалам Л. Д. Дашиевой [2021, с. 99], в брачной обрядности у джидинских бурят, а именно в их басаганай наадан ‘игры невесты’, прослеживается образ невесты-лебедушки.
С образом лебедя увязывается также мотив оборотничества. В одном из фольклорных текстов хори-бурят показана сцена превращения, в которой герой насильно заставляет деву-лебедь принять человеческий облик:
Тем арканом
Я поймал лебедицу,
И со словами: «Будь человеком, или
Я тебя убью», -
Побил ее так, что пух в висках и
Боках вытерлись,
И стала черной шкура,
Когда она не смогла вытерпеть,
В Жабхай ханшу
В золотую Тужи
В красавицу неописанную
Тогда она превратилась,
И я взял ее в жены
[Улигеры хори-бурят, 1988, с. 126].
Отдельно стоит коснуться проявления этого мотива в шаманской поэзии. В ней шаман хо-ри-бурятского происхождения способен превращаться в лебедя для мистической схватки с другим шаманом. Это иллюстрирует легенда о братьях-шаманах Шаду и Биду [Балдаев, 2009, с.135].
Другим примером перевоплощения в лебедя в шаманской поэтике является образ главы сайтани бурханууд ‘чайные боги’, шаманки Мишэлэ / Бишэлэ Ганзу ‘Мишэлэ / Бишэлэ бешеная’ – дочери Намтая. Укажем, что к этой категории западных божеств также относились мифические прародители хори-бурят Хоридой и его жена-лебедь Хобоши хатан [Михайлов, 1983, с. 119]. Дочери Намтая устраивали обряды весной и осенью во время перелета лебедей: «Мишэлэ место (в обличье. – А. Б .) лебедя обратно прилетит, весной молебен встречает, а осенью молебном провожает» 1. При этом в качестве ритуального угощения готовили зеленый чай, кобылье молоко, рис и мак, а также насыпали китайский красный табак. Считалось, что эта белая шаманка родилась в «южной стране» – в Южной Монголии на границе с Китаем (отсюда такой специфический набор обрядовых продуктов), куда осенью она, обратившись в птицу, улетала, а весной возвращалась. Полагали, что, помимо функции главы собрания чайных богов, Мишэлэ исполняла роль защитницы людей от происков злых северных небожителей, в частности от насылаемых ими болезней 2.
Изображения лебедя в шаманской атрибутике хори-бурят раскрывают его функционал как ездового животного шамана (это подтверждается наличием металлических фигурок-подвесок данного пернатого на шаманском бубне) и его духа-помощника (украшение металлическими фигурками лебединой пары шаманского плаща) [Бадмаев, 2020, с. 108].
Упомянутый выше хори-бурятский обряд хэшэг хурылха дает основание говорить, что с этой птицей связывали идею небесной благодати, проявляющуюся в обретении богатства и счастья. Помимо того, по народным приметам бурят, приснившийся лебедь, который плавает на озере, символизировал еще и благоденствие.
В то же время грозным предупреждением считали беспричинное замешательство и снижение лебедей, пролетающих над домом или селением [Балаганский сборник…, 1903, с. 211]. Такое поведение расценивали как знак будущего несчастья или болезни, могущих постигнуть людей. Отдаленное сходство с указанным выше имеет примета у чувашей и башкир, согласно которой пролетающие над селением лебеди предвещают несчастье для его жителей [Чувашская мифология, 2018, с. 133, 135].
По представлениям бурят, лебедь выполнял еще и функцию вестника высших сил: так, в сказании «Болодор-хозяин, имевший серо-стального коня величиною с холм» он выступает глашатаем воли небес [Улигеры ононских хамниган, 1982, с. 220].
Народные воззрения о природных ритмах переносились на лебедя. По Д. С. Дугарову [1991, с. 148], лебедь на крыльях приносил лето. Подобно дикому гусю, это пернатое воспринималось бурятами и как предвестник наступления холодного сезона и выпадения снега. Верили, что перед отлетом на юг он вызывает шубуунай зада ‘букв. птичье ненастье; осеннее ненастье’ – длительную непогоду, сопровождающуюся холодным, порывистым ветром с дождем и снегом; для этого они якобы выкапывали из земли особый корень [Хангалов, 1958, с. 408]. Заметим, что воззрения о лебеде как о птице, несущей снег и холод, имеют широкую географию в Евразии: они известны у вепсов [Винокурова, 2007, с. 72], киргизов [Потанин, 1881, с. 99], северных русских [Гура, 1997, с. 678] и др.
Проведенное исследование показывает, что в традиционном мировоззрении бурят образ лебедя приобрел особое значение. Данная птица относилась к числу сакральных животных и наделялась позитивной коннотацией.
Выяснено, что в бурятской лексике особо выделяли следующие биологические признаки лебедя: его размеры, окрас оперенья, голос. Реликты его тотемного культа, характерного в прошлом для части бурят, проявлялись в табу на убийство данного пернатого, употребление в пищу его мяса, а также в совершении обряда почитания во время его сезонных перелетов. Определено, что лебедь был включен в дарообменные практики бурят.
В символике этой птицы важную роль играл цвет оперенья, благодаря которому ее связывали со светлыми небесными силами. По представлениям бурят, она имела небесную, солярную, водную природу и женское начало. С нею увязывали идеи небесной благодати и благоденствия, а также мотив оборотничества. В то же время нарушение ее полета воспринималось как знак грядущей беды и болезни. Ее наделяли функцией вестника высших сил. Лебедь также рассматривался вестником лета и зимы. В шаманской поэтике бурят он является ездовым животным шамана и его духом-помощником.


