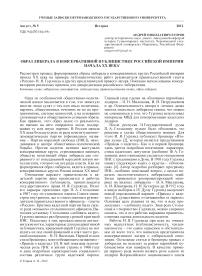Образ либерала в консервативной публицистике Российской империи начала ХХ века
Автор: Егоров Андрей Николаевич
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 5 (126), 2012 года.
Бесплатный доступ
Рассмотрен процесс формирования образа либерала в консервативных кругах Российской империи начала ХХ века на примере публицистических работ руководителя правительственной газеты «Россия» И. Я. Гурлянда и других представителей правого лагеря. Показано использование консерваторами различных приемов для дискредитации российского либерализма.
Либерализм, консерватизм, публицистика, правительственная печать, образ либерала
Короткий адрес: https://sciup.org/14750176
IDR: 14750176 | УДК: 94(4701/6)6199
Текст научной статьи Образ либерала в консервативной публицистике Российской империи начала ХХ века
Одна из особенностей общественно-политической жизни заключается в том, что зачастую многие люди судят о тех или иных политиках, партиях, общественных течениях не по их программатике, системе ценностей, а на основании сложившегося в общественном сознании образа. Как правило, этот образ далек от реальности, но именно на него опираются люди, поддерживая ту или иную партию. В России начала ХХ века большую роль играла конституционнодемократическая партия (официальное название – Партия народной свободы (ПНС)), находившаяся в центре общественно-политической борьбы. Против кадетов активно выступали консервативные круги, стремившиеся навязать обществу негативный образ либерала как оторванного от повседневной народной жизни интеллигента, готового на все ради власти. Как же формировался образ либерала, кадета в правых, консервативных кругах России начала ХХ века?
Отношение царского правительства к кадетской партии ярко проявляется в работах консервативного публициста, приват-доцента государственного права И. Я. Гурлянда. Взлет его карьеры произошел при П. А. Столыпине: в 1907 году он становится членом Совета министров внутренних дел и ответственным руководителем правительственного официоза – газеты «Россия». Критика кадетской партии была своего рода «коньком» столыпинского официоза. Выполняя установку Столыпина «добивать кадет», Гурлянд написал ряд брошюр с резкой критикой ПНС. Поскольку в них проскальзывали антисемитские нотки, характерные для консервативной публицистики, крещеный еврей Гурлянд не мог издать их под своей фамилией и взял чисто русский псевдоним – Н. П. Васильев. Первой из них стала брошюра с многообещающим названием – «Правда о кадетах» [3]. В ней показана политическая роль ПНС в жизни страны в 1906 году и дана подробная характеристика социального состава различных групп кадетской партии.
Главный упор сделан на обличении партийных лидеров – П. Н. Милюкова, И. И. Петрункевича и др. Осведомленность автора в личных делах многих известных либералов такова, что можно не сомневаться в том, что Гурлянд использовал материалы МВД для компрометации кадетских лидеров.
После роспуска II Государственной думы П. А. Столыпину нужно было обосновать это решение в глазах общественного мнения. Для этого И. Я. Гурлянд публикует брошюру «Вторая дума» [2], которая является продолжением «Правды о кадетах». Как и в первой брошюре, здесь дается подробная негативная характеристика кадетских депутатов (особенно Ф. А. Головина), много внимания уделяется отношениям ПНС с трудовиками в Думе. В 1910 году Гурлянд пишет следующую книгу о кадетах – «Оппозиция» [4]. Автор подробно разбирает программу ПНС, особенно земельный вопрос, с целью показать несостоятельность либеральных идей. Затем приводится компрометирующий материал на видных либералов – В. А. Маклакова, А. И. Шингарева, Н. Н. Кутлера и др. В 1912 году в канун выборов в IV Думу Гурлянд выпускает новый переделанный вариант «Правды о кадетах» [5], существенно отличавшийся от первого. Основная цель издания та же, что и всех предыдущих – «добивать кадет». Зная роль Столыпина в «творчестве» Гурлянда, можно уверенно сказать, что в его работах выражена правительственная оценка деятельности кадетов.
Работы И. Я. Гурлянда при всех их очевидных недостатках (публицистичность, тенденциозность) – это самое серьезное и обстоятельное из всего того, что написали представители консервативного лагеря о либеральной оппозиции. Остальные статьи и брошюры правых о либералах не выходят за рамки партийной публицистики или памфлета. В качестве примера первого рода можно назвать речь одного из лидеров Всероссийского национального союза графа В. А. Бобринского о кадетах, опубликованную в виде отдельной брошюры [1]. Пример второго рода – памфлет Н. Кривского «Второе правительство», написанный в связи с поездкой П. Н. Милюкова в Америку [10]. Крайне поверхностное и тенденциозное освещение деятельности ПНС в публикациях подобного рода говорит о том, что их авторы просто не разбирались в существе проблем, а в лучшем случае подгоняли известные им факты под свои взгляды, а то и вовсе искажали их. В современной России в связи с интересом к консерватизму переиздаются наиболее значимые публицистические работы видного консерватора В. П. Мещерского [13], знаменитого члена Всероссийского национального союза М. О. Меньшикова [11], [12], известного издателя А. С. Суворина [14] и др. Добавим, что В. П. Мещерский издавал одну из основных консервативных газет России конца ХIХ – начала ХХ века – «Гражданин».
Какие же идеи проводились в этих работах? Первое, что бросается в глаза, – это тесная, абсолютно неразрывная связь либерализма с «еврейским вопросом». Причину такого подхода можно найти в письме князя В. П. Мещерского А. С. Суворину: «Вдумайтесь хорошенько – наш беспочвенный либерал не есть ли брат-близнец столь ненавистного вам еврея?.. Еврей, сколько мне кажется, есть прежде всего тот деятель в человечестве, которого целью в жизни – есть отрицание христианских начал… и если это так, то потрудитесь мне объяснить, в чем различие между либералом нашего прогресса, который прежде всего хочет, чтобы власть земная была слаба и ему подвластна, чтобы Бог был изгнан с земли и душа была предана смерти, чтобы нажива давала все те права, в которых он отказывает роду, и так далее, – и между евреем, который буквально требует того же самого?.. Жид пришел к нам вместе с вами, господин издатель, пришел вами званный, вами приглашенный вместе с гуманностью, цивилизациею и либерализмом последних 30 лет. И я очень хорошо помню, как в одну дверь выходили вами изгонявшиеся дисциплина государственная, дисциплина школьная, дисциплина семейная, дисциплина церковная, а в другую дверь с расшаркиванием и комплиментами вы приветствовали входившие к нам из-за границы все виды расшатывающего и разнуздывающего либерализма» [7; 4].
Следовательно, «еврейское засилье» представлялось В. П. Мещерскому всего лишь частным случаем нашествия на традиционную Россию «либерализма», который являлся, в свою очередь, политической ипостасью буржуазной модернизации страны. Именно на этот триединый процесс указывал князь в 1902 году: «Либеральная Россия в своих целях стремится идти по пути Западной Европы и вести других по пути нового закабаления народа капитализму и еврейству» [13; 66].
Более детально этот сюжет разворачивается в «Гражданине» в 1896 году: «К сожалению, – писал сотрудник Мещерского В. В. Ярмокин, – развившаяся до грандиозных размеров газетная деятельность все более и более подпадает влиянию евреев, которые постоянно пропагандируют внешнюю формулу свободы, так как в свободе эксплуатировать своего ближнего вся их цель жизни, все направление их ума и все значение их в мировой жизни. Вот эта-то газетная литература, эта “книга” нашего времени – влияет вообще на умы, а в особенности на умы молодого поколения, которое… легко вводят в заблуждение, преподнося им эксплуататорские свои вожделения под флагом либерализма, под флагом правды и справедливости, под флагом свободы, равенства и братства. Оттого-то молодость с таким увлечением прислушивается к словам “конституция”, “республика”, всеобщее избирательное право… Еврей знает, что он пропагандирует. Такой политический строй народов самый удобный для владычества денег, т. е. той силы, которую одну только и признает еврей» [8; 5].
Итак, либеральные ценности, конституция, гарантии прав и свобод человека, по мнению автора «Гражданина», создают наиболее благоприятную среду осуществления «еврейских идеалов» наживы и эксплуатации. «Последнее слово “либерализма” есть эксплуатация других в свою пользу», – утверждал В. П. Мещерский. Оттого-то «республиканский образ правления представляет самую удобную почву для укрепления еврейского господства» [13; 67]. Но если равноправие и свободы являются не самодовлеющими ценностями, а всего лишь условиями господства евреев, то и сами евреи оказываются не самостоятельными субъектами, а почти бессознательными орудиями некой высшей инстанции. Такой высшей инстанцией, демиургом, распоряжающимся судьбами народов, в том числе и еврейского, представлялся авторами «Гражданина» финансовый капитал.
Таким образом, для В. П. Мещерского пресловутый «жид» – это всего лишь псевдоним болезненной капиталистической трансформации страны, развития буржуазного хозяйства и рыночных отношений. Во многих текстах «Гражданина» наблюдается это характерное переплетение этнических и социально-экономических категорий. Итак, еврей = капитал, и очевидно, что тревогу князя вызывает не «еврей», а именно «капитал», который несет смертельную угрозу поместному дворянству, самодержавию и всему «Старому порядку». Далее ставится знак равенства между понятиями «еврей», «капиталист», «либерал», «кадетская партия». Исходя из таких теоретических, если можно так выразиться, положений консерваторы оценивали кадетскую партию. Ее назвали еврейской, жидокадетской (выражение М. О. Меньшикова) и т. п.
По мнению консерваторов, ПНС состояла из трех частей: правые кадеты, левые и центр. Правое крыло охватывало средние городские слои, часть купечества, приказчиков. И. Я. Гурлянд писал: «Сюда входят: служащие в банках, страховых обществах, комиссионных и иных конторах, особенно, если знакомые студенты успели поколебать в них веру в существующий порядок, а отсутствие политического развития сбивает в одну кучу стремления к лучшим условиям жизни и скорбь о том, что у нас нет республики. Сюда же входят и чиновники разных ведомств, зачисляющие себя в оппозицию из нерасположения к своему ближайшему начальству, из-за уменьшения порции праздничных наградных, из-за неполученного места, на которое имелись расчеты… Словом, все это крыло было бы правильнее назвать оппозицией по необходимости, в силу ряда нелепостей русской действительности» [5; 4]. Главная мысль очень проста: в либеральное движение люди идут не по объективным причинам, не из-за стремления к свободе и правовому строю, но в силу каких-то личных амбиций, обид на начальство, а то и просто собственной глупости. Кадеты предлагают этим людям всяческие блага, но, в отличие от левых партий, не требуют заниматься революцией.
Другое дело левое крыло партии. Это, по мнению консерваторов, чистые революционеры: «Оно состоит из людей воспламененных, из людей в такой мере ненавидящих существующее правительство, что когда они говорят о нем, глаза их принимают рубиновый оттенок, лица искажаются, а некоторых даже начинает как бы подергивать» [5; 11]. Разумеется, подавляющее большинство этой группы – инородцы, и прежде всего, конечно, евреи. Кроме того, сюда входят поляки, армяне, финны и др. Историки установили, что в кадетской партии было некоторое число евреев, но гораздо меньше, чем в социалистических партиях. Член ЦК ПНС А. В. Тыркова-Вильямс в своих воспоминаниях отмечала, что «главными создателями и руководителями кадетской партии были не евреи» [15; 427], и призывала не преувеличивать их влияние на политику партии.
И. Я. Гурлянд утверждал: «Левое крыло – это та агентура, при помощи которой кадетский центр нащупывает свои шансы в революционном подполье и при помощи которой делает свои наиболее бешеные атаки на уравновешенную часть общества… Начинаясь у точки, которую можно назвать строго конституционной, кадетская боевая линия развернулась вплоть до того тупого угла, где сосредоточились шайки политических убийц и грабителей… Исторически этот фронт строился не справа налево, а слева направо, и корни партии и основные ее центры вышли из тьмы революционного подполья» [5; 15].
Консерваторы были убеждены, что кадетская партия существует на деньги еврейских кругов, связанных с революционным подпольем. Они утверждали, что выборы во все Думы были проведены кадетами почти целиком на еврейские деньги, что девять десятых журналистов, работающих в кадетских изданиях, – евреи, что сношения кадетов с европейской печатью и с различными международными радикальными организациями также ведутся через евреев. «Еврейские банки, еврейские торговые фирмы, еврейские общества – все приноровлено к поддержке кадетизма, потому что кадетизм есть только вывеска, под которой скрывается святая святых всего еврейского дела в России… Кадеты не имеют права выставить ни одного кандидата в Думу без предварительного разрешения еврейского синедриона, обязанности которого исполняет правление союза еврейского равноправия», – утверждал И. Я. Гурлянд [5; 15].
В доказательство этого положения консерваторы указывали на роль члена ЦК ПНС М. М. Ви-навера. М. О. Меньшиков даже утверждал, что Винавер дирижирует всей кадетской партией [12; 72]. В этой связи отметим следующее. «Союз для достижения полноправия еврейского народа в России» был создан в марте 1905 года как коалиция ряда партийных еврейских группировок. Винавер действительно был одним из его создателей, но отнюдь не руководителем. Мало того, когда в деятельности этой организации усилились радикальные националистические тенденции, Винавер и другие кадеты-евреи вышли из Союза, создав свою собственную организацию – Еврейскую народную группу [9; 229]. Это была одна из самых умеренных еврейских общественных организаций, и даже речи не было о том, чтобы она руководила кадетской партией или подчинялась некому мифическому еврейскому центру.
Итак, справа в кадетской партии находятся амбициозные деятели, обиженные на власть, слева – инородцы из среды революционеров. А кто же в центре? Ответ И. Я. Гурлянда очень прост: «Центральная группа партии – лицемеры, политические мошенники, люди, обратившие ложь, подлоги, клевету и плутовство в основной прием своей политической деятельности» [5; 18]. Свалить все на евреев в данном случае было невозможно, поскольку в руководстве кадетской партии их было очень немного, преобладали русские. Консерваторы их называли «волки в овечьей шкуре» и всячески дискредитировали хорошо известными приемами: Департамент полиции представлял компрометирующие материалы на либеральных лидеров, а правая пресса их раздувала. Так, И. И. Петрункевича обвиняли в том, что он по женской линии потомок гетмана Мазепы, а значит, как и Мазепа, изменник России. В. Д. Набокова упрекали в богатстве, заявляя, что одна его жилетка дороже, чем гардероб двух трудовиков. Общим лейтмотивом правой пропаганды было утверждение о том, что лидеры кадетской партии хотят только одного – власти, министерских портфелей и ради этого готовы пойти на все.
Кадетская партия имела хорошо разработанную программу переустройства страны на либеральных принципах, сформулированную П. Н. Милюковым, С. А. Муромцевым, В. И. Вернадским, М. М. Ковалевским и др. Оспорить эту программу по существу консерваторы не могли, но делали все необходимое, чтобы ее скомпрометировать. Это делалось очень просто. Правые доказывали, что программа для либералов существенного значения не имеет, а нужна лишь как средство возбудить недовольство существующим строем с целью осуществить государственный переворот. «Ряд лет, – писал И. Я. Гурлянд, – неустанно, изо дня в день, в общественное сознание внедрялось сознание, имевшее всегда одну и ту же цель: возбуждать недоверие к правительству как к строю, знаменующему собою произвол и бесправие, и вселить стремление к свободе. К какой? К свободе вообще. О частностях не думали, а когда начинали подходить к ним, то ничего, кроме общерадикального вздора, придумать, конечно, не могли. И путем земства, и путем прессы, и путем университетского преподавания старательно создавалась та атмосфера недовольства и раздражения, которая должна была привести прежде всего к двум следствиям: к “переоценке ценностей”, т. е. к отказу от всего, что так или иначе отдавало традицией, привычкой, а следовательно, мешало вкоренению новых начал; во-вторых, к естественной уверенности, что на смену старого порядка уже готов новый; во всяком случае, что уже определились лица, которые лучше других могли бы осуществить новый порядок» [5; 22].
Главное в кадетской партии, по мнению консерваторов, – это тактика, которая должна привести их к власти. Все остальное – неважно. При таком подходе кадеты из идейных борцов за демократию и права человека превращались в заурядных политиканов, готовых на все ради власти: «Нужна не свобода обществ и союзов, а нужна свобода обращать общества и союзы в орудие революционных целей… Речь идет не о свободе как начале гражданственности, а о свободе как средстве осуществить задуманный общий политический переворот. Сначала переворот – говорит “оппозиция” в кавычках, а затем займемся реальной жизнью. Впрочем, и тут она только лжет: переворот ей нужен вовсе не для того, чтобы потом чем-либо, действительно заняться. Переворот нужен как единственный путь, который мог бы привести к власти» [4; 45].
Следует отметить, что либералы, как правило, не вступали в полемику с консерваторами, считая это ниже своего достоинства. Так, А. В. Тыркова-Вильямс отмечала, что консервативная пресса «стояла на таком низком уровне, была такая грубая, что полемизировать с ней не приходилось. Вообще грубость была отличительной чертой правых, вплоть до употребления непечатных слов. Конечно, не в газетах, этого цензура не допустила бы, но они рассылали поносительные открытки, полные непристойных ругательств» [15; 426]. И. В. Гессен в своих воспоминаниях писал, что словесное состязание с правыми «представлялось дурацкой нелепостью, насмешкой над самим собою и вызывало непреодолимое отвращение» [6; 259].
Таким образом, консервативная публицистика начала ХХ века делала все возможное, чтобы всячески дискредитировать российский либерализм. При этом использовались самые разные приемы – от утрирования, передергивания и высмеивания до прямой лжи и клеветы. В общественное сознание упорно внедрялся образ либерала как беспринципного политикана, стремящегося получить власть любой ценой. Об уровне полемики говорит фраза графа В. А. Бобринского о названии кадетской партии: «Название это совсем не русское; даже произнести его очень трудно русскому человеку, и от одного имени его сразу веет чем-то нам чуждым» [1; 4].
* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 12-01-00249.
Список литературы Образ либерала в консервативной публицистике Российской империи начала ХХ века
- Бобринской В. А. О конституционалистах-демократах или партии народной свободы. Звенигород, 1906. 18 с.
- Васильев Н. П. Вторая Дума. СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1907. 96 с.
- Васильев Н. П. Правда о кадетах. СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1907. 88 с.
- Васильев Н. П. «Оппозиция». СПб., 1910. 138 с.
- Васильев Н. П. Правда о кадетах. Новое дополненное и переработанное издание. СПб., 1912. 95 с.
- Гессен И. В. В двух веках. Жизненный отчет//Архив русской революции. Т. ХХII. Берлин, 1937. 424 с.
- Гражданин. 1886. 5 июня. № 45.
- Гражданин. 1896. 10 ноября. № 84.
- Книга о русском еврействе: от 1860-х годов до революции 1917 г. Иерусалим; М.; Минск, 2002. 598 с.
- Кривский Н. Второе правительство (Поездка Милюкова в Америку и ее значение). СПб., 1908. 16 с.
- Меньшиков М. О. Выше свободы: Статьи о России. М.: Современный писатель, 1998. 464 с.
- Меньшиков М. О. Письма к русской нации. М., 1999. 560 с.
- Мещерский В. П. Гражданин консерватор. М., 2005. 304 с.
- Суворин А. С. Русско-японская война и русская революция. Маленькие письма (1904-1908). М., 2005. 752 с.
- Тыркова-Вильямс А. В. Воспоминания. То, чего больше не будет. М.: Слово, 1998. 560 с.