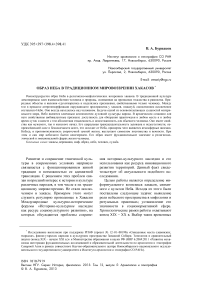Образ неба в традиционном мировоззрении хакасов
Автор: Бурнаков Венарий Алексеевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Этнография народов Евразии
Статья в выпуске: 5 т.12, 2013 года.
Бесплатный доступ
Реконструируется образ Неба в религиозномифологических воззрениях хакасов. В традиционной культуре доминировала идея взаимодействия человека и природы, основанная на принципах тождества и равенства. Природные объекты и явления одухотворялись и наделялись признаками, свойственными только человеку. Между тем в процессе антропоморфизации окружающего пространства у хакасов, пожалуй, единственное исключение составляло Небо. Оно всегда находилось над человеком. Будучи одной из основополагающих сущностей материального мира, Небо является ключевым компонентом духовной культуры народа. В архаическом сознании для него свойственны амбивалентные признаки: доступность для обозрения практически в любом месте и в любое время суток и вместе с тем абсолютная отдаленность и недостижимость для обычного человека. Оно имеет свойства как мужского, так и женского начал. Его сакральная трансцендентальность заложена в недоступности, непревзойденной силе и бесконечности всего, что исходит от Неба, примером чего являются атмосферные явления. Небеса, в противоположность скоротечной земной жизни, выступают символом постоянства и вечности. При этом и сам мир небесного бытия неисчерпаем. Его образ имеет фундаментальное значение в религиозно-этической и эмоциональной сферах жизни человека.
Хакасы, верования, миф, обряд, небо, человек, судьба
Короткий адрес: https://sciup.org/147218841
IDR: 147218841 | УДК: 395+397+398.4+398.41
Текст научной статьи Образ неба в традиционном мировоззрении хакасов
Развитие и сохранение этнической культуры в современных условиях напрямую связывается с функционированием живой традиции и возможностью ее адекватной трансляции. С решением этих проблем связан возросший интерес к истории и культуре различных народов, в том числе к их традиционному мировоззрению. Не стали исключением и хакасы. Примером этого могут служить регулярно проводимые в Хакасии Международные культурно-исторические форумы «Историко-культурное наследие как ресурс социокультурного развития», на которых обсуждаются проблемы сохране- ния историко-культурного наследия и его использования как ресурса инновационного развития территорий. Данный факт свидетельствует об актуальности подобного исследования.
Целью работы является определение мифоритуального комплекса хакасов, связанного с культом Неба. Исходя из этого были поставлены следующие задачи: выявление роли небесного пространства в мифологии и ритуальных практиках; установление его значимости в соционормативной сфере. Хронологические рамки работы охватывают конец XIX – XX в. Выбор таких временных границ вызван, прежде всего, состоянием источниковой базы по теме исследования. Научная новизна работы состоит в применении комплексного этнолингвистического анализа к изучению прошлого и системном описании образа Неба в традиционном мировоззрении хакасов. Методика исследования основана на историко-этнографических методах – научного описания, конкретноисторического анализа, структурно-семантического и реликта.
Во многих культурах одно из главных мест занимает мифоритуальный комплекс, связанный с Небом. Оно всегда было и остается важнейшим объектом эстетического созерцания, эмоциональной восприимчивости, часто имеющей междометное значение испуга, удивления или восхищения, а также религиозного поклонения (обрядность, моления и др.). Подобные же переживания по отношению к этому природному объекту в полной мере испытывали и хакасы. Они всегда обожествляли, преклонялись и продолжают почитать Небо, нередко называя его « Хан Тигiр » – ‘Царь-Небо’.
Небо и имеющие к нему отношение объекты и явления оцениваются как эстетически прекрасные. Небесное пространство является объектом и источником положительных эмоций, оказывающим позитивное влияние на психоэмоциональное состояние человека. Данный факт нашел отражение в таком общераспространенном образном выражении хакасов, как «öрiнiзi пу чир нимес» – ‘[у него] радости до небес’ [Хакасско-русский словарь, 2006. С. 328]. Своеобразная красота и неповторимость Небес над Хакасией невольно вызывал восторг у многих исследователей. Так, в XIX в. Енисейский губернатор А. П. Степанов, характеризуя природно-климатические особенности подведомственного ему региона, сообщал, что «яркость неба звездного придает здесь великолепие ночам, и нигде солнце не показывается с такою славою, как здесь, на Восточном горизонте» [1835. С. 65]. Далее этот государственный деятель, приступая к описанию сакрального природного пространства, расположенного в долине р. Абакан (в урочище Арбаты), отмечал особую ритуальную значимость Небес в жизни местных жителей: «Ежели действительно здесь приносимы были жертвы древними, то, конечно, уже они не могли выбрать места лучшего. Утесы гор составляют великолепную ротонду, на которой покоится лазурный купол неба, озаряемый в известное время дня присутствием Божественного Света» [Там же. С. 141]. Несколькими десятилетиями позже известный исследователь и золотопромышленник Н. В. Латкин, изучая природу Хакасии, совершенно точно подметил: «…что здесь в особенности примечательно – это чистота воздуха, в зимнее время и ранней осенью и необыкновенная синева неба, напоминающая южные страны, как и необычайно яркий блеск звезд. Все это придает необыкновенную прелесть здешним ночам, которые в сильные жары в июле и августе нередко освещаются блеском вспыхивающих в разных частях неба зарниц» [1892. С. 91].
Само расположение Неба, завораживающая его красота, величие, постоянство, безграничность и многие другие признаки способствовали наделению его в культуре хакасов высоким сакральным статусом. В мифологическом мышлении Небо наряду с Землей представляет собой основополагающий элемент мироздания, называемого по-хакасски Чайаан чалбах / Őöрке тилекей [Хакасско-русский словарь, 2006. С. 617, 925; Бутанаев, 2011. С. 112]. В связи с этим в фольклоре совершенно не случайно при описании картины формирования Вселенной отмечается факт одновременного происхождения Земли и Неба со всеми его светилами:
«Чир пастап пут парғанда.
Чылтыстар хада тöреен полыптыр»
‘Когда земля создавалась, Тогда же и звезды рождались’
[Алтын-Арыг, 1988. С. 8, 250].
«Чир пастап тамырлананда, Чилегеленiп, ағас öзерде, Тимiр пастап хурчалғанда, Тиксi чир ÿстÿ сiлiг чайалғанда, Ах тасхыллар топтайып пÿткен туста, Ах талайлар аххан туста, Ах тубаннар, чайылап,
Айнын харағын тулғир туста, Айнын-кÿннiн харағы Чир ÿстÿн чарыдар туста,
‘Когда впервые зародилась земля, И пустили корни растущие деревья, И впервые железо опоясало,
Всю поверхность сотворенной прекрасной земли,
В то время, когда белые снежновершинные горы стали возвышаться,
И стали разливаться могучие реки, Начали расстилаться белые туманы, Когда око Луны еще было закрыто, В то время, когда Луна и Солнце Впервые стали освящать поверхность земли’ 1
[Хубан Арыг, 1995. С. 3].
Космогонический сюжет с запечатленной синхронностью появления Земли и Неба, очевидно, восходит к древнетюркскому мифу о сотворении этих сфер мироздания. Так, например, в известном отрывке из «Памятника в честь Кюль-Тегина» представлена следующая картина: «Когда было сотворено (или возникло) вверху голубое небо (и) внизу темная (букв. бурая) земля, между (ними) обоими были сотворены (или: возникли) сыны человеческие (т. е. люди)» [Малов, 1951. С. 36]. Согласно этиологическим мотивам хакасского фольклора в момент сотворения мира, Небо и Земля изначально пребывали в состоянии некой бесформенной общности. Именно эта мысль легла в основу зачина хакасского героического сказания «Алтын Чÿс»:
«Чир пастап тамырланғанда,
Тигiр пастап хурчалғанда,
Ах тасхыллар топайып килiп пÿткен туста,
Ах талайлар сииллiп аххан туста;
Пулут öтiре кÿн кöрерде,
Пус öтiре суғ ағарда;
Халғахнаң чир пöлерде,
Хамыснаң суғ сузарда;
Алтын пÿрлiг пай хазың
Пастап найхалып öскенде»
‘Когда в земле появились первые корни, И земля впервые была опоясана небесным сводом,
И когда впервые вздыбились снежновершинные горы
И в мире впервые вздымались белогривые волны
Когда сквозь тучи солнце проглянуло, Из-подо льда вода просочилась;
Когда мешалкой землю разделяли
И ковшом воду поддевали;
Когда золотистая пышная береза Покачиваясь, впервые вырастала’ [Унгвицкая, Майнагашева, 1972.
С. 43–44].
Данный эпический отрывок демонстрирует архаическое моделирование мира: нечто, бывшее Хаосом, разделяется, упорядочивается, т. е. становится Космосом. Земля отделяется от воды мешалкой или ковшом, появляются Солнце и тепло. Эпоха перво-творения – не только формирование упорядоченного пространства, но и обращение от безвременья ко времени [Традиционное мировоззрение…, 1988. С. 20–21]. Важная роль в этом процессе отводится небесной сфере. Ее главные представители – Солнце, Луна и звезды, перемещаясь в космосе с определенной закономерностью, задают цикл времени.
Разделение по параметрам макрокосмической асимметрии: Небо наверху, Земля внизу, очевидно, явилось одной из первых ориентационных категорий, свойственных традиционному мышлению. Рудименты данных суждений обнаруживаются у хакасов в их молитвенном обращении к духу – покровителю коней, где Небо выступает ключевым ориентиром в мифологической картине мира: «Земля, с которой ты сбился, находится по направлению к небу» [Катанов, 1907. С. 253].
В архаическом сознании космогонический акт отделения Неба от Земли не только организовывает пространство и устанавливает время. Благодаря этому глобальному процессу формируются два основополагающих начала. Согласно мифам, их дальнейший союз способствовал зарождению жизни во Вселенной. При этом основная вертикальная оппозиция мироздания – Неба-верха и Земли-низа – в архаическом мышлении утверждает о них мысль, как о двуединой божественной паре. Данная идея нашла отражение в уже отмеченном древнетюркском мифологическом сюжете об этой сакральной диаде. Л. П. Потапов, анализируя древнетюркские рунические памятники, констатировал, что у древних тюрок верховное божество Земли именовалось Jap-суб, которое по своей религиозной значимости было подобно властителю Неба – Тангpi. Верили, что оба божества играли судьбоносную роль в жизни людей. Данные воззрения, по мнению ученого, нашли отражение в рунической надписи, посвященной кагану Могиляну (старшему брату Кюль-Тегина), носившему титул Бильге-кагана, в которой имеется фраза: «Вверху Небо, а внизу Земля... были благосклонны» (цит. по: [Потапов, 1991. С. 198]).
В мифологических воззрениях тюркских и монгольских народов образ божества Земли порой соотносится с образом Умай [Гал-данова, 1987. С. 27–28; Жуковская, 1977. С. 20–26; Дугаров, 1991. С. 83, 211; Потапов, 1991. С. 290–298]. Более того, отдельные исследователи не без основания полагают, что в мировоззрении южносибирских тюрок, и хакасов в их числе, богиня Умай и божество Неба – Тенгри на определенном этапе своего религиозно-мифологического развития воспринимались в качестве божественной супружеской четы [Традиционное мировоззрение…, 1988. С. 20]. В русле подобных мифологических суждений и ассоциаций Небо метафоризировалось, как «оплодотворяющее», связанное с зарождением жизни на Земле. Считалось, что эти процессы происходят путем изливания на Землю небесного семени – дождя, и извержения молнии.
Наряду с этим обращает на себя внимание важнейшая особенность хакасского мифологического восприятия Неба. Она проявляется в том, что это космическое пространство наделяется амбивалентными характеристиками, в том числе касающимися вопросов его половой идентификации. В мироощущении этого народа Небо воспринимается в качестве мужского начала (Хан Тигiр – Царь-Небо) в противоположность женскому – Земле (Чир Ине – Мать-Земля). Наряду с подобными ментальными установками на Небо и Землю в мироощущении хакасов были представлены и иные, очевидно, более архаичные. Имелись суждения о том, что это небесное пространство выступает в качестве женского начала – Матери-прародительницы. Так, Н. Ф. Катанов записал у хакасов шаманскую молитву, адресованную божеству Верхнего мира – «Духу-покровителю голубых коней». В ней Небо прямо называется матерью: «Отец его – святой Аркай, и мать – святое небо (Тегир)» [1893. С. 92]. Реликты представлений о Небе – женском, рождающем начале нашли отражение в хакасской мифопоэтике. В ней красной линией проходит такой архаизм, как «тигiр паары» – ‘поднебесье, небосклон’, буквально переводимый как «неба печень», например:
«Алтында турған хара чирi, Сарғодаң сарғап турғандағ, Чоғар турған тигiр паары Илгекнең илгеп турғандағ»
‘Внизу черная земля [качалась], Будто веющая ручная веялка Вверху глубокое небо [колыхалось], Будто сеющее сито’
[Алтын-Арыг, 1988. С. 65, 307].
«Чирнiн ÿстÿ илгелiп,
Тигiр паары чайхалып»
‘Поверхность земли колебалась, Лоно неба качалось’
[Хакасский героический…, 1997.
С. 98–99].
Заслуживает внимания тот факт, что в хакасском и других тюркских языках слово « паар » ‘печень’ в переносном значении может выражать такие понятия, как «грудь», «живот», «лоно», «плод», «глубина», «сердце», «душа» и пр. [Будагов, 1869. С. 249; Майнагашева, 1997. С. 435; Бутанаев, 1999. С. 80; Хакасско-русский словарь, 2006. С. 332–333]. Более того, в мировоззрении хакасов, печень – орган, прямо связанный с плодородием человека, с зачатием детей [Кызласов, 1982. С. 86]. В связи с этим в народе общеупотребительной является метафора – « паарымнаң сыххан палам » – «букв. мой ребенок, вышедший из моей печени», применяемая как в сакральной, так и в обиходной речи для обозначения кровного, родного ребенка. Представление о «лоне неба» ( тангара коjин ) распространено также среди алтайцев и телеутов [Потапов, 1991. С. 139].
В архаичном мировоззрении Небо воплощает не только идею двуединого начала и плодородия, но абсолютности, космической мощи и величия. В мифологическом сознании, как точно заметил М. Элиаде, «небо раскрывает себя таким, какое оно есть: бесконечным и трансцендентным. Небесный свод – это нечто, далее всего отстоящее от ничтожного человека и его крошечного срока жизни» [1999. С. 36]. В ми- ровосприятии хакасов подобные качества Неба запечатлены в таком его устойчивом наименовании, как Илбек Turip [Баскаков, Инкижекова-Грекул, 1953. С. 224]. При этом слово илбек несет в себе следующие смысловые значения: обильный, достаток, много; широкий, обширный, просторный, пространный, необъятный; огромный, громадный; великий [Там же. С. 57; Бутанаев, 1999. С. 32; Хакасско-русский словарь, 2006. С. 121]. Свойственная Небу пространственная характеристика, главным образом его отдаленность и возвышенность, выразительно представлена в фольклоре, где по отношению к нему используются такие маркирующие эпитеты, как «чоFаp mуpFан murip паары» - ‘раскинувшееся наверху глубокое небо’, «хайда-хайда murip паары, кугурт чоллап» - ‘далеко-далеко небо, пересеченное радугой’, «пбзiкme mуpFан murip паары» - ‘наверху свод неба’, «murip чахсы паары» – ‘необъятное, глубокое небо’ и др. [Алтын Арыг, 1988. С. 72, 93, 95, 111, 129, 313, 335, 337, 363, 371; Хакасский героический…, 1997. С. 98–99, 112–113].
Человек традиционного общества, осознавая трансцендентность и физическую недостижимость Неба, все же сделал попытку постичь и освоить эту высшую и безграничную сферу мироздания. На мифоритуальном уровне он структурировал, пронумеровал, дал название звездам, определил пространственные и иные характеристики Неба и многих его объектов и явлений. При этом категории земной жизни человека, его ценности и идеи в виде мифов и образов были спроецированы на Небо, в ходе чего в миропонимании людей оно стало восприниматься пространством упорядоченным и структурированным. Результатом горизонтального членения явилось выделение в нем двух основных сторон света – востока и запада. Подобное ментальное конструирование Неба, по всей видимости, основывалось на закономерной траектории движения Земли вокруг Солнца. При этом в основу подобного деления небесной сферы лег принцип оппозиций. Так, метафорическим обозначением востока является словосочетание murip алны (букв. перед неба), а запада - murip соо (букв. зад неба) или murip кuсmi (букв. задняя сторона неба) [Бутанаев, 1999. С. 141; 2011. С. 222]. Помимо того, в культуре хакасов Небеса моделировались и в вертикальной плоскости.
В мировоззрении хакасов разграничение верхнего небесного мира по вертикали фиксируется наиболее дробно. Н. Ф. Катанов, изучая мировоззрение хакасов, в этой связи сообщал: «Небесных стран (чаще всего) бывает шесть, семь, даже двенадцать» [1907. С. 213]. Необходимо отметить, что описанную исследователем мифологическую стратификацию Небес нельзя признать полной. Согласно традиционному мировидению хакасов, количество небесных ярусов (хак. murip чupi, murip mамы ) варьирует от одного до восьмидесяти. Так, в их эпическом повествовании встречается упоминание о небесных слоях следующими числами: один, три, четыре, шесть, семь, девять, двенадцать, сорок, семьдесят и восемьдесят. При этом все же чаще отмечается три, семь, девять и сорок небесных областей [Радлов, 1868. С. 126–543; 1989. С. 236; Катанов, 1907. С. 184, 213, 385]. Каждая небесная сфера, как правило, соотносилась с обителью или полем деятельности того или иного небесного божества – чайаан ’ а .
«Ближнее небо» характеризовалось тем, что на нем располагались Солнце ( кун ), Луна ( ай ), звезды ( чылmысmаp ) и радуга ( murip хуры ; kyrypm чолы ). Полагали, что здесь возникают раскаты грома, плывут облака, отсюда нисходят молнии и выпадают дождь, град, снег. Края этого неба на горизонте то и дело соприкасаются и расходятся с землей, в ритме пульса [Потапов, 1991. С. 139]. И поэтому не случайно, что в культуре хакасов Небо естественным образом отождествляется с климатом, погодой и атмосферными явлениями. В связи с этим в народе принято говорить о метеорологических условиях и изменениях посредством таких образных словосочетаний, как « murip ху-рупча » ‘климат становится сухим’, « murip чайыхча » ‘небо проясняется’, « murip uMi-пче » ‘погода теплеет (зимой)’ « murip ным-запча » ‘погода смягчается (летом)’, « пуpFун-ныF murip » ‘погода с метелью’, « часхы murip чаплакай, куску murip куплекей » ‘весенняя погода ненадежная, осенняя погода дождливая’, « куску muripre iзeс чоFыл » ‘на осеннюю погоду нет надежды’, « чуттығ murip » ‘дождливая погода’, «хас murip » ‘ненастная погода’ [Бутанаев, 1999. С. 141], « muripde^ myскeн хар осхас » ‘подобен снегу, выпавшему с небес’, «хаmыF айасmац хар myзepдer » ‘кажется, с ясного неба снег выпадет’ [Хакасский героический…, 1997.
-
С. 222–223, 378–379], « тигiр айастанча » ‘погода / небо проясняется’.
Абсолютный факт того, что погодные явления имеют естественную связь с Небом запечатлен и в таком устоявшимся наименовании дождя у хакасов, как « тигiр сығы » (букв. небесная влага). В народе сложилась поговорка, характеризующая ненастье и затяжные осадки: « тигiр тÿбi тизiл партыр » (букв. неба дно продырявилось) [Хакасскорусский словарь, 2006. С. 614]. К Небу, как высшей сакральной силе, хакасы всегда обращались и во время общественных жертвоприношений и молений – Тигiр тайығ . Одной из их важнейших целей было испрашивание дождя, особенно в засушливые годы. В этой связи в молитвах-обращениях обязательно присутствовали следующие просьбы: «Ради того, чтобы не дули на земле ветры! Ради того, чтобы не постигало нас бедствие! Ради того, чтобы на черной земле выросла трава! Ради того, чтобы спустился с царя-неба черный дождь! Просим! Да будет слышно обо все на девяти небесах!» [Катанов, 1907. С. 385].
Цветовая детерминированность небесного пространства, как известно, определяется метеорологическими условиями и суточным циклом. Характерной особенностью климата Хакасии является то, что небо вне зависимости от сезона преимущественно освещено ярким солнечным светом. Данный факт нашел отражение в таком общераспространенном эпитете региона, как «Солнечная Хакасия» ( Кÿннiг Хакас чирi ). На эту природную особенность Хакасии вслед за другими исследователями в конце XIX в. обратил внимание и А. А. Кропоткин, отметивший, что «небо в степной области, вообще, ясное, т. е. нельзя пожаловаться на недостаток солнечных дней» [1895. С. 23].
В мышлении хакасов понятие «ясная и безоблачная погода» определяется понятием «айас» – ‘ясный / чистый’. Оно же является одним из известных наименований Неба, которое используется как в паре с лексемой тигiр, так и самостоятельно. Поэтому описывая хорошую погоду с чистым небосводом в народе принято говорить: «айас тигiр» ‘ясное небо’, «айас алты» ‘поднебесье’, «тигiр айас» ‘на небе безоблачно’ [Хакасско-русский словарь, 2006. С. 39]. Данное обозначение Неба широко представлено и в эпическом творчестве, например: «Айас алтын алты пулғап, / Айлан парып, таста- ан» ‘Под ясным небом шесть раз раскрутив, / Развернувшись (богатыря) на землю бросил’, «Ханаттығ хус ах айасха кöдiрiлiп, / Ханат сабынып, айастап парир» ‘Крылатая птица по голубому небу, / Взмахивая крыльями, ввысь парит, поднимается’, «Ай-ас алтын алты пулғап, / Пулут алтын читi пулғабысхан, / Хара чирге читкен» ‘Шесть раз под ясным небом его раскрутив, / Семь раз под облаками его прокрутив, / На черную землю бросил’ [Там же; Хакасский героический…, 1997. С. 124–125, 130–131].
Прозрачность и светоносность Неба в фольклоре нередко передается посредством эпитета « чарых тигiр » ‘светлое / сияющее небо’ или « тигiр чарии » ‘небесное сияние’: « Чарых тигiрдiң алтын, / Харап кöр тура-дыр » ‘В низ светлого неба, / Всматриваясь, озирается’, « Хыйға Чичен паза хатап, / Ча-рых тигiр алтын полгебезiн » ‘Пусть Хыйга-Чичен, / Низ светлого неба больше не пересекает’ [Хакасский героический…, 1997. С. 80–81, 178–179], « тигiр чарып турған » ‘небо озарялось’ [Баскаков, Инкижекова-Грекул, 1953. С. 312], « пулут тарап парған – тигiр чарыбысхан » ‘тучи рассеялись – небо стало светлее’ [Хакасско-русский словарь, 2006. С. 946]. По сообщению фольклориста В. Е. Майнагашевой, слово чарых имеет персидское происхождение и обозначает «колесо», что в хакасской традиции воспринимается в качестве образа «небесного колеса», т. е. небосвода [1997. С. 448].
В мироощущении хакасов, категории ясность / светлость / прозрачность полностью соответствует белому цвету – ах . В культуре народа символические значения белого в основном позитивны: он означает добро, возвышенность, одухотворенность, чистоту, всевозможные блага, радость, мир и т. д. Поэтому совершенно не случайно, что у хакасов посредством подобного цве-тообозначения передается и одно из знаковых названий Неба – Ах Айас [Хакасскорусский словарь, 2006. С. 39], которое буквально переводится, как ‘Белое Небо’ или ‘Белая Ясность’. Следует добавить, что в хакасской речи понятия « ах » и « айас » нередко взаимозаменяются. На данный факт в свое время обращали внимание отдельные тюркологи. Так, С. Е. Малов и Ф. А. Фиель-струп, анализируя хакасский язык и фольклор, отмечали, что «вместо ağ tigir качинцы поют ajas tigir – вёдренное небо, ясное» [1928. С. 292].
Данная образная характеристика Небес в полной мере отражена и в обрядовой поэзии. Так, в молитвенном обращении к природным божествам приведены следующие слова: «Белое облако в белом небе! О, владыка, белое небо»; «О, бледное небо!»; «О, тасхыл, побеждаемый только бледным (небом)! О, железный тасхыл, побеждаемый бледным (небом)!», «Ты как будто пролил молоко, протянувши под белеющим (небом) белый шелк (т. е. млечный путь)» [Катанов, 1907. С. 252, 253, 254, 573–574]. Белый цвет Неба широко представлен и в народных песнях, например:
«Ağ tigirdyη čyltyzў
Kűnūηne ǐrte sayadуr
Albaneg ǐrdiη ulűmū Kilsken žirde ūširidr.
Ağan tigirdiη čyltyzў
Kűnūηne ğǎra sǎyadyr.
Gǎrặ bastyη ǐrtўη sűgű
Kilsken žirde žadytr»
‘Звезды белого (чистого) неба Восходят ежедневно вечером!
Мужу, платящему подати, смерть Приключается в подобающем месте. Звезды белого царя – неба
Ежедневно ночью восходят.
Кости черноголового мужа
Будут лежать в подобающем месте!’ [Малов, Фиельструп, 1928. С. 292].
Сакрализация белого цвета у хакасов нашла отражение в их ритуальной атрибутике. Так, на шаманских бубнах было принято изображать обитателей Верхнего мира белой краской [Катанов Н. Ф. (священник), 1889. С. 113; Катанов, 1893. С. 31].
Общеизвестно, что прозрачный воздух атмосферы создает естественную синеву неба. Эта закономерность в хакасской культуре обусловила появление таких типичных его определений, как Кок Айас (Синее Небо) [Бутанаев, 1999. С. 20], Кок Turip (Синее Небо) или просто Кок (букв. синева, синий) [Майнагашева, 1997. С. 435; Кызласов, 2003. С. 101]. Схожее наименование Неба – Кок Айас и Кок Тангара с аналогичной семантикой встречается и у алтайцев [Потапов, 1991. С. 139]. В своем архаическом мифологическом значении синий цвет символизирует Вселенную, Космос, что нашло выражение в эпическом повествовании ха- касов, например: «Ус кокmi dmipe оскен, / TоFыс хыpлыF козеешц» ‘Девятигранная стела, / Проросшая три неба’ [Хара Хус-хун…, 1977. С. 12]. Синева Неба нашла отражение и в народных лирических песнях, как то:
«Кűк tigirdyη čyltyzў
Kund-le bolza s y yadyr
Kűlűk ǐrdiη ulűmi,
Kűnd-le bolza učridyr!»
‘Звезды синего неба Восходят ежедневно Смерти удалому мужу В своей жизни не избежать!’ 2
[Малов, Фиельструп, 1928. С. 293].
Небо как естественная реалия синего цвета также устойчиво ассоциируется с идеей вечности, непостижимости и божественности. Эта колоративная характеристика часто используется в обрядовой поэзии, в том числе и в словах молитвы, обращенной к духам – божествам природных объектов, например: «О, синее облако, под синим небом!», «О, тасхыл 3, подобный головам девяти ящериц! <… > Заставляющий играть с синим небом!» [Катанов, 1907. С. 252, 254]. Устойчивая ассоциация Неба с синим цветом часто встречается в народных поговорках и загадках, например, « кок muripde кор табарға » ‘выдумывать, придумывать, говорить что-либо без каких-либо обоснований и фактов’ (букв. в синем небе отыскивать) [Боргоякова, 2000. С. 40], « кок порим туу намачы ( murip )» ‘моя синяя шапка вся в заплатках (небо и облака)’ [Мудрое слово…, 1976. С. 120; Бутанаев, 2011. С. 224].
В целом, в традиционном мироощущении хакасов Небо воспринимается как модель идеального недосягаемого для многих мира, который открыт лишь избранным. Небеса ассоциативно связываются с идеей свободы и истины, осознаются обителью светлых сил мироздания. Наряду с подобными воззрениями, само Небо выступает как ипостась Бога. Несмотря на то что в традиционной религиозно-мифологической системе хакасов по своей форме оно абстрактно и не имеет антропоморфных призна- ков и черт [Майнагашев, 1916; Потапов, 1991], в сознании верующих Небо наделяется способностью воспринимать и порождать мысль человека, проявлять благосклонность к людям, которые обращаются к нему с просьбами, верят и почитают его. В народе искренне полагают, что Небо способно понять, поддержать и простить человека, в связи с чем хакасы свои помыслы, чаяния и надежды всегда обращали к Небу, будучи глубоко убежденными, что от его абсолютной воли зависят жизнь и судьба не только отдельного человека, его семьи, но и всего народа. Оно определяет каждому живому существу его место в природе, а человеку еще и в обществе, управляя всеми социальными и природными явлениями на Земле. Небо почиталось как высшая законодательная и судебная инстанция [Катанов, 1907. С. 330; Степанов, 1835], беспощадная карающая сила, манифестацией которой являлись гром и молния.
Представленный материал позволяет прийти к выводу о том, что в мировоззрении хакасов Небу отводилось одно из ключевых мест. Оно, наряду с Землей, осознавалось в качестве первоосновы мироздания, обители Солнца, Луны и звезд, источника всех атмосферных явлений, олицетворяло собой трансцендентальность, постоянство, мощь и высшую сакральность. С ним связывалось представление о зарождении жизни на Земле. Образ Небес, как правило, наделяется положительным значением. Небо играло и продолжает выполнять важную роль в религиозно-мифологической, этической, эмоциональной сферах жизни хакасского народа.
IMAGE OF THE SKY IN TRADITIONAL OUTLOOK OF KHAKASSES
Список литературы Образ неба в традиционном мировоззрении хакасов
- Алтын-Арыг. Хакасский героический эпос. М.: Наука, 1988. 592 с.
- Баскаков Н. А., Инкижекова-Грекул А. И. Хакасско-русский словарь. М.: Главиздат, 1953. 487 с.
- Боргоякова Т. Г. Краткий хакасско-русский фразеологический словарь. Абакан, 2000. 144 с.
- Будагов Л. З. Сравнительный словарь турецко-татарских наречий. СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1869. Т. 1. 819 с.
- Бутанаев В. Я. Хакасско-русский историко-этнографический словарь. Абакан, 1999. 240 с.
- Бутанаев В. Я. Русско-хакасский словарь (около 15 тыс. слов). Петропавловск: Полиграфия, 2011. 940 с.
- Галданова Г. Р. Доламаистские верования бурят. Новосибирск: Наука, 1987. 114 с.
- Дугаров Д. С. Исторические корни белого шаманства. М.: Наука, 1991. 300 с.
- Жуковская Н. Л. Ламаизм и ранние формы религии. М.: Наука, 1977. 199 с.
- Катанов Н. Ф. (священник) Шаманский бубен и его значение // ЕЕВ. 1889. № 6. С. 112-114.
- Катанов H. Ф. Письма Н. Ф. Катанова из Сибири и Восточного Туркестана // Приложение к LXXIII тому Записок Имп. Акад. наук. СПб., 1893. № 8. 113 с.
- Катанов Н. Ф. Наречия урянхайцев (сойотов), абаканских татар и карагасов: образцы народной литературы тюркских племен, изданные В. В. Радловым. СПб., 1907. Т. 9. 640 с.
- Кызласов И. Л. Гора - прародительница в фольклоре хакасов // СЭ. 1982. № 2. С. 83-92.
- Кропоткин А. А. Саянский хребет и Минусинский округ // Живописная Россия. СПб.; М.: Изд. Т-ва М. О. Вольф, 1895. Т. 12, ч. 1: Восточные окраины России. Восточная Сибирь. С. 19-50.
- Кызласов А. С. Структура корневых лексем в хакасском языке. Абакан: Хакас. кн. изд-во, 2003. 152 с.
- Латкин Н. В. Енисейская губерния, ее прошлое и настоящее. СПб.: Тип. и литогр. В. А. Тихонова, 1892. 467 с.
- Майнагашев С. Д. Жертвоприношение небу у бельтиров // Сб. МАЭ. Пг., 1916. Т. 3. С. 93-102.
- Майногашева В. Е. Комментарии к переводу // Хакасский героический эпос: Ай-Хуучин. Новосибирск: Наука, 1997. С. 430-448.
- Малов С. Е., Фиельструп Ф. А. К изучению турецких абаканских наречий // Записки коллегии востоковедов при Азиатском музее Академии наук СССР. Л.: Изд-во АН СССР, 1928. Т. 3. С. 289-304.
- Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности: Тексты и исследования. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1951. 452 с. Мудрое слово. Хакасские пословицы, поговорки и загадки. Абакан: Хакас. отд-ние Красноярск. кн. изд-ва, 1976. 127 с.
- Потапов Л. П. Алтайский шаманизм. Л.: Наука, 1991. 321 с.
- Радлов В. В. Поднаречия Абаканские (сагайское, койбальское, качинское, кызыльское и чулымское (кюэрик)) (образцы народной литературы тюркских племен, живущих в Южной Сибири и Дзунгарской степи). СПб., 1868. Т. 2. 712 с.
- Радлов В. В. Из Сибири: Страницы дневника. М.: Наука, 1989. 749 с.
- Степанов А. П. Енисейская губерния. СПб.: Тип. Конрада Вингебера, 1835. Ч. 1. 278 с.
- Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Пространство и время. Вещный мир. Новосибирск: Наука, 1988. 224 с.
- Унгвицкая М. А., Майнагашева В. Е. Хакасское народное поэтическое творчество. Абакан: Хакас. отд-ние Красноярск. кн. изд-ва, 1972. 312 с.
- Элиаде М. Очерки сравнительного религиоведения. М.: Ладомир, 1999. 488 с.
- Хакасский героический эпос: Ай-Хуучин. Новосибирск: Наука, 1997. 479 с.
- Хакасско-русский словарь. Новосибирск: Наука, 2006. 1114 с.
- Хара Хусхун. Алыптығ нымах (Богатырское сказание). Абакан: Хакас. отд-ние Красноярск. кн. изд-ва, 1977. 196 с. (на хак. яз.)
- Хубан Арыг. Богатырское сказание, записанное от С. И. Шулбаева. Абакан: Хак. кн. изд-во, 1995. 192 с. (на хак. яз.)