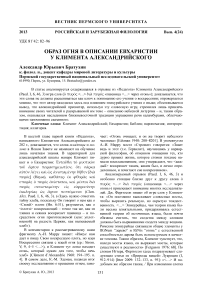Образ огня в описании евхаристии у Климента Александрийского
Автор: Братухин Александр Юрьевич
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Язык, культура, общество
Статья в выпуске: 4 (24), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется содержащаяся в отрывке из «Педагога» Климента Александрийского (Paed. I, 6, 46, 3) игра слов (ὁ πυρὸς διὰ πυρός «пшеница через огонь»); доказывается, что эти слова не должны расцениваться как ключ к пониманию его учения о воскресении; опровергается мнение, что этот автор находился здесь под влиянием эпикурейского учения о языке; обосновывается вывод, что александрийский пресвитер, используя эту словесную игру, стремился лишь привлечь внимание своих читателей к раскрываемой им теме – описанию небесной литургии – и, таким образом, оказывался наследником ближневосточной традиции украшения речи каламбурами, облегчающими запоминание сказанного.
Климент александрийский, евхаристия, библия, парономазия, интерпретация, аллегория
Короткий адрес: https://sciup.org/14729251
IDR: 14729251 | УДК: 81’42:
Текст научной статьи Образ огня в описании евхаристии у Климента Александрийского
В шестой главе первой книги «Педагога», написанного Климентом Александрийским до 202 г., доказывается, что слова младенцы и молоко в Новом Завете не намекают на обучение лишь начаткам знания. В характерной для александрийской школы манере Климент пишет и о Евхаристии: Ἐνταῦθα τὸ μυστικὸν τοῦ ἄρτου παρασημειωτέον, ὅτι σάρκα αὐτὸν λέγει καὶ ὡς ἀνισταμένην δῆθεν [διὰ πυρός] (Heyse), καθάπερ ἐκ φθορᾶς καὶ σπορᾶς ὁ πυρός ἀνίσταται, καὶ μέντοι διὰ πυρός συνισταμένην εἰς εὐφροσύνην ἐκκλησίας ὡς ἄρτον πεπτόμενον ( Clem. Alex. Paed. I, 6, 46, 3). («Здесь нужно отметить тайну хлеба, поскольку Он говорит о нем как о <Своей> плоти (Ин. 6:51), разумеется, как о <плоти> воскресающей – точно так же, как из тления и сеяния воскресает пшеница – и посредством огня приготовляемой (или: уплотняемой) на радость Церкви, как выпекаемый хлеб»).
В комментарии к рассматриваемому нами фрагменту А.-И. Марру пишет: «Иисус нам дает в пищу Свою воскресшую плоть, но идея Воскресения связана с идеей огня (ср.: Strom. V, 9, 4–5 <…>), и Климент тут легко находит огонь, который нужен для того, чтобы печь хлеб» [Clément d’Alexandrie 1960: 194–195. n. 4]. В самом деле, К.-М. Эдсман, подводя итог своему исследованию о крещении огнем, заме чает: «Огонь очищает, и он же творит небесного человека» [Edsman 1940: 200–8201]. В упомянутом А.-И. Марру месте «Стромат» говорится: «Знает ведь и этот (т.е. Гераклит), научившись у варварской философии, об огненном очищении тех, кто дурно прожил жизнь, которое стоики позднее назвали воспламенением; они утверждают, что <каждый> воскреснет таким, каким был, и лично определенным, и почитают сие воскресением».
Анализируемый отрывок (Paed. I, 6, 46, 3) и особенно стоящие близко друг к другу слова ὁ πυρός <…> διὰ πυρός («пшеница <…> через огонь») привлекают внимание многих исследователей. Дж. Фергюсон пишет об игре слов у Климента: «Он постоянно выискивает словесные мосты, чтобы выразить реальную, но скрытую тождественность. <…> Эпикурейцы, чьи теории языка были весьма влиятельными, придерживаясь естественной теории об источниках языка, были почти обязаны считать, что сходства между словами должны быть выражениями сходств между вещами. Римские эпикурейцы связывали общие элементы у lIGNum “дерево” и IGNis “огонь” с естественной способностью дерева быть используемым в качестве топлива. Таким образом, Климент чувствует, что, находя мосты языка, он выражает мосты, которые существуют в реальности» [Ferguson 1976: 68]. По словам Иттера, Фергюсон здесь подразумевает следующие стихи из «Природы вещей» Лукреция (I, 912–914) [Itter 2009: 132–133, n. 95]: «<…> И подобным же образом также, / При изменении слегка сочетания букв, создаются / Разного рода слова совершенно различного смысла» (пер. Ф. А. Петровского). Мнение Фергюсона Иттер подтверждает ссылкой на слова Климента: «<…> Святое любезно тому, от которого святое происходит, которое по праву названо светом. БЕсте бо иногда тма, ннЕ же сбЕтъ (фш^) w гдЕ (Еф. 5:8). Поэтому, думаю, человек древними был назван φώς» (Paed. I, 6, 28, 2) [Itter 2009: 133, n. 95]. В действительности же, согласно эпикурейской теории языка, эмоциональные звуки первых людей соответствовали вызвавшим их предметам [Верлинский 2006: 295]; о сходстве между вещами, которые обозначаются похожими словами, у эпикурейцев речь не идет. Эпикура мало интересовало, как конкретная структура вещи отражена в структуре слова.
Ж. Даниелу, процитировав фрагмент Paed. I, 6, 46, 3, замечает: «Первая часть возобновляет тему зерна, брошенного в землю, которое проросло. Но вторая вводит новый элемент – огонь. Как огонь печет хлеб, так он преображает тело Христа. Замечательно, что образ хлеба, выпекаемого на огне, обнаруживается в Мученичестве Поликарпа » [Daniélou 1990: 31]. Для более полного представления об одном из возможных источников Климента приведем фрагмент из «Мученичества Поликарпа», на которое ссылается Даниелу: «Когда он произнес Аминь! и закончил молитву, люди, которым это было поручено, зажгли огонь. Когда же вспыхнуло большое пламя, мы, которым было дано увидеть, узрели чудо и сохранили <его в памяти>, чтобы возвестить о случившемся остальным. Ведь огонь, принявший вид свода, словно наполненный ветром парус корабля, окружил тело мученика. И в середине было напоминающее не сжигаемую плоть, но выпеченный хлеб или золото и серебро, очищаемое огнем в печи» (Martyrium Polic. 15, 1–2).
Дж. Р. Дуглас, замечает относительно отрывка Paed. I, 6, 46, 3: «Этот пассаж подчеркивает различие между телами <до и после воскресения>, распространяя метафору семени за пределы того, о чем говорилось ранее. Там, где у других авторов часто делалось сравнение между зарытым семенем и взошедшей пшеницей, в этом пассаже сравнивается семя и испеченный хлеб. Впоследствии тело перенесет драматическое изменение (dramatic change), но его не нужно будет понимать как конец телесности» [Douglass 2007: 138]. Сам отрывок страницей выше ученый переводит так: He says that He is flesh, and very likely means flesh that has risen after having passed through the fire, as wheat destined to become bread rises from the destruction of the seed, and flesh which yet has gathered all the churches together in gladness of heart through fire, as the wheat is gathered together and baked by fire to become bread («Он говорит, что Он есть плоть, и, скорее всего, подразумевает плоть, которая воскресла после прохождения через огонь, как пшеница, предназначенная стать хлебом, воскресает из гибели семени; и плоть, которая уже собрала вместе все церкви в радости сердца через огонь, как пшеница собрана и выпечена на огне, чтобы стать хлебом»). Сразу уточним следующие выражения: во-первых, слово αὐτόν относится не к Христу, а к упомянутому выше хлебу; во-вторых, исключая, вслед за Хейсом, слова διὰ πυρός как интерполяцию, мы должны убрать уточнение «после прохождения через огонь»; в-третьих, определению «предназначенная стать хлебом» нет соответствия в оригинальном тексте; в-четвертых, причастие συνισταμένην – скорее всего пассивного, а не медиального залога, существительное же ἐκκλησίας – не винительный падеж множественного числа, а родительный единственного; в-пятых, словам «как пшеница собрана и выпечена на огне, чтобы стать хлебом» в греческом тексте соответствуют три слова: «как выпеченный хлеб». Для сравнения приведем более ранний (и более корректный) перевод на английский язык, выполненный В. Вильсоном (1885): Here is to be noted the mystery of the bread, inasmuch as He speaks of it as flesh, and as flesh, consequently, that has risen through fire, as the wheat springs up from decay and germination; and, in truth, it has risen through fire for the joy of the Church, as bread baked. («Здесь надо отметить тайну хлеба, так как Он говорит о нем как о плоти, о той, следовательно, которая воскресла [через огонь], как пшеница всходит из гниения и прорастание; и, действительно, она воскресла через огонь на радость Церкви, как выпеченный хлеб»). См. также перевод Маргерит Харл (1960): Il faut noter ici le sens mystique du “pain”; il dit que c’est sa chair, sûrement sa chair ressuscitée: comme le blé qui sort de la décom-position et de l’ensemencement, sa chair se reconstitue après l’épreuve du feu, pour la joie de l’Église; elle est comme le pain une fois qu’il a été cuit («Здесь надлежит отметить таинственное значение “хлеба”; Он говорит, что это Его плоть, конечно, Его плоть воскресшая: как зерно, которое появляется из разложения и сеяния, Его плоть восстанавливается после испытания огнем на радость Церкви; она [т.е. плоть] как хлеб, когда он выпечен»). Заметим также, что учение о кардинальном изменении тела после воскресения в разбираемом отрывке приобретает не новое наполнение, а лишь новое словесное выражение. В самом деле, идея об изменении воскресшего тела содержится и в Евангелии (Христос проходит сквозь двери горницы, Ин. 20:19, 26), и у апостола Павла (1 Кор. 15:51–54; Флп. 3:21; 1 Фес. 4:15–17). Намек на «драматическое изменение», о котором говорит Дж. Р. Дуглас, находим у апостола язычников: «d егшжЕ дЕдо сгормтъ, w^etmtca: слмъ же спсЕтса, такождв УКожЕ бгнЕмъ» (1 Кор. 3:15). Ср.: «Ёсдкъ во бгнЕмъ шсолмтсд» (Мк. 9:49). У него же встречается и соположение верующих и хлеба: «Икш ёдннъ хлЕвъ, едино тЕло ёсмы мнозм» (1 Кор. 10:17). Образ преображенного тела как испеченного хлеба, более яркий, более конкретный, был введен Климентом (вероятно, не без влияния «Мученичества Поликарпа»), но этот образ, как нам представляется, не должен расцениваться как ключ к пониманию его учения о воскресении, которое подробно не раскрывается ни в одном из сохранившихся его трудов. Хотя после разбираемого нами отрывка Климент ссылается на одно свое сочинение – «Но ведь у нас более ясно будет показано это в работе “О воскресении” (ἀλλὰ γὰρ αὖθις ἡμῖν σαφέστερον τοῦτο ἐν τῷ Περὶ ἀναστάσεως δηλωθήσεται)» (Clem. Alex. Paed. I, 6, 47, 1), Евсевий Кессарийский об этой работе не упоминает (H. E. VI, 13, 3), а Ч. Бигг высказал даже предположение, что она вообще не была написана [Bigg 1913: 148].
К. Иттер так пишет об отрывке из «Педагога»: «Климент говорит о хлебе небесном, упомянутом в Евангелии от Иоанна (6:51), но подчеркивает отношение между хлебом и пшеницей, из которой он сделан. Это есть “таинство хлеба ( τὸ μυστικὸν τοῦ ἄρτου )”, так как это плоть, которая воскресла “посредством огня ( διὰ πυρός ), как пшеница ( ὁ πυρός ) появляется из гниения и прорастания <…>. Действительно, она воскресла посредством огня на радость Церкви, как выпекаемый хлеб ( ἄρτον πεπτόμενον ).” Терминология, относящаяся к хлебу, указывает, что Климент рассматривал этимологическую связь между пшеницей и испеченным на огне хлебом как знаменательную (significant). Здесь плоть, т.е. воскресшее тело, воскресает посредством огня, как это происходит с хлебом, когда он выпекается. Семена пшеницы еще раз отсылают к душам, которые нашли семена Слова Божьего и позволили им прорасти или воспламениться внутри себя. Процесс этот есть процесс усилившегося освящения, когда души становятся хлебом небесным в подражание Христу» [Itter 2009: 134]. Выше Иттер рассматривает следующий пассаж из «Пророческих эклог» Климента: «Иоанн говорит: “Я вас крещу водою, идет же за мною Крестящий вас духом и огнем <…>
Ибо веялка в руке Его для очищения гумна, и Он соберет хлеб ( σῖτον ) в житницу, солому же сожжет огнем неугасимым”. К слову “огнем” ( διὰ πυρός ) примыкает слово “духом”, поскольку как хлеб ( σῖτος ) отделяется от соломы, то есть, от материального покрова, дуновением, и провеиваемая солома отделяется дуновением, так дух имеет силу, отделяющую от материальных воздействий. А так как некоторые вещи произошли от нерожденного и нетленного, семенные начала жизни, они собираются, как пшеница ( πυρός ), и откладываются про запас; материальное же, пока оно вместе с сильнейшим, остается; а когда отделяется от него, гибнет. Ведь оно имеет свое бытие в другом. Это потенциально отделяющееся – дух, потребляющее же – огонь; а огонь нужно понимать как материальный. Но так как спасаемое подобно хлебу ( σίτῳ ), окружающее же душу – соломе, и первое – бестелесное, отделяемое же – материально, бестелесному он противопоставил дух <…>, материальному же – огонь» ( Clem. Alex. Eccl. 25, 1–4). Ученый так комментирует это место: «В середине этого пассажа Климент чувствует необходимым использовать для обозначения пшеницы слово πυρός вместо термина Матфея. <…> Чередование наводит на мысль, что Климент видел некоторое значение (some significance) в связи между именительным падежом слова, обозначающего пшеницу, πυρός , и родительным падежом слова, обозначающего огонь, πυρός : каким-то образом пшеница порождается из огня или рождается от него. Подразумевается, что душа, которая очищена и отделена крещением, пшеница, очищена и произведена от нерожденного и нетленного, которое есть огонь Святого Духа» [Itter 2009: 133–134].
Таким образом, исследователи, изучавшие интересующий нас текст, усматривают в нем как намек в евхаристических терминах (in eucharistic terminology) на священную природу гностической жизни (the sacramental nature of the gnostic life) (Иттер), так и указание на воскресение тел (Дуглас, Марру). Утверждается также важность (some significance) звукового сходства между словами, обозначающими «огонь» и «пшеницу» (Иттер), для Климента, который находился под влиянием как эпикурейского учения о языке (Фергюсон), так и «Мученичества Поликарпа» (Даниелу).
По нашему мнению, утверждение, что «терминология, относящаяся к хлебу, указывает, что Климент рассматривал этимологическую связь между пшеницей и испеченным на огне хлебом как знаменательную», достаточно спорное: Климент часто пользовался парономазией, не придавая ей какого-либо особого значения. Приведем примеры из «Педагога», встречающиеся в нем до разбираемого отрывка: «<…> Познаем Его заповеди и наставления как краткие и интенсивные (συντόμους… συντόνους) пути в вечность» (Paed. I, 3, 9, 4). «Агнцам Он отдал преимущество, предпочтя в людях нежность и простоту (ἁπαλότητα <…> ἁπλότητα) души, незлобие» (Paed. I, 5, 14, 2); «<…> Безгрешность нежных <птиц> и незлобие и незлопамятность (ἄκακον καὶ ἀμνησίκακον) птенцов приятны Богу <…>» (Paed. I, 5, 14, 3); «Мы признаём обучение благим водительством (ἀγωγὴν ἀγαθήν) от детства к добродетели» (Paed. I, 5, 16, 1); «Итак, младенец покладист и, таким образом, более мягок, нежен, прост, бесхитростен (ἀταλός ἁπαλός ἁπλοῦς ἄδολος); <…> Ибо таково девичье слово — нежное и непритворное (ἁπαλός <…> ἄπλαστος)» (Paed. I, 5, 19, 3). «<…> дитя Божие, очищенное от блуда и лукавства (πορνείας καὶ πονηρίας)» (Paed. I, 6, 32, 4); «<…> доставлять приготовленную природой легко усваиваемую пищу для питания (τροφὴν εἰς ἀνατροφὴν) спасения» (Paed. I, 6, 41, 1); «<…> Мы, едва родившись, начинаем вскармливаться; а едва возродившись, мы удостаиваемся (εὐθὺς μὲν ἀποκυηθέντες τιθηνούμεθα, εὐθὺς δὲ ἀναγεννηθέντες τετιμήμεθα) надежды на отдохновение <…>» (Paed. I, 6, 45, 1). Есть примеры словесной игры и в других сочинениях Климента: «не каркает, не квохчет (οὐ κρῷζοντα οὐ κλώζοντα)» (Protr. 10, 104, 2).
Заметим, что места, на которые ссылается Иттер, не единственные, где Климент использует игру слов «пшеница» и «огонь». Например, в «Педагоге» они появляются, если не считать разбираемого фрагмента, трижды: «Ибо лопата вь р^кЕ ( Мф . 3:12) Господа, которой (лопатой) Он отделяет от пшеницы ( τοῦ πυροῦ ) солому, подлежащую огню ( τῷ πυρί )» (Paed. I, 9, 83, 3); «Жадные и суетливые, они, кажется, попросту опутывают своими сетями <весь> мир для получения наслаждений, окружая себя шипящими сковородками, расточая всю свою жизнь около ступы и песта, всепожирающие, прилепляющиеся к материи, как огонь ( τὸ πῦρ ). Но и хлеб, простую пищу они изнеживают, отсеивая питательное в пшенице ( τοῦ πυροῦ ), так чтобы необходимая пища становилась упреком наслаждению» (Paed. II, 1, 3, 2); «<…> Писание гласит: “Вода и огонь ( πῦρ ), и железо, и молоко, мука пшеницы ( σεμίδαλις πυροῦ ) и мед, кровь виноградной грозди и оливковой масло, и одежда, — все это благочестивым на благо”» (Paed. II, 8, 76, 5).
На самом деле в Септуагинте этот текст имеет такой вид: «<…> вода и огонь, и железо, и соль ( ἅλας ), и мука пшеницы, и молоко ( γάλα ), и мед <...>» (Сир. 39:26–27=32–33). Отметим, что у прп. Иоанна Дамаскина эта библейская цитата выглядит так: «<…> Хлеб ( ἄρτος ) и вода, и одежда, и огонь, и железо, и соль, мука пшеницы, оливковое масло, молоко, мед, – все это благочестивым на благо» (Sacra parallela. Vol. 95. P. 1293). Выбор Климентом «молока» вместо «соли» представляется знаменательным, так как вся шестая глава первой книги «Педагога» посвящена как раз интерпретации «молока» в Новом завете. Вода в Paed. I, 6, 50, 3 символизирует крещение, огонь, пшеничная мука (Paed. I, 6, 46, 3) и кровь виноградной грозди (Paed. I, 5, 15, 3) – Евхаристию; молоко (=Логос, см.: Paed. I, 6, 45, 2) и мед – горний Иерусалим (Paed. I, 6, 45, 1), елей – миропомазание и/или соборование ( Иак . 5:14, см. также: Paed. I, 6, 45, 2: «Логос является бурлящим источником жизни и называется рекой елея» Иез . 32:14; Втор . 32:13), одежда – праведность ( Откр . 16:15); о железе см.: Strom. VII, 16, 103, 2; ср.: VII, 2, 9, 4; II, 6, 26, 2. Кроме того, огонь и железо также связаны с приготовлением Святых Даров. Символичность этих веществ делается явной из слов Тертуллиана – современника Климента, намекающего на таинства маркионитов, копирующих церковные таинства: «Но он (бог Маркиона) до сих пор не отверг ни воду Творца, которой омывает своих святых, ни елей, которым их умащает, ни смесь из меда и молока, которой их по-детски питает, ни хлеб, при помощи которого он представляет собственное тело, даже в таинствах своих нуждаясь в нищенских вещах Творца» ( Tert . Adv. Marc. I, 14, 3). Отдельные элементы, указанные в Paed. II, 8, 76, 5, появляются у Клемента в сакраментальном контексте: «Писание говорит о Господе: насыти ихъ жить сЕлныхъ: ссаша мЕдь из камене и елей t тверда камене , масло крАби и млекО ОЕчее сь тккомь агнчимь ( Втор . 32:13 - 14 ) , и сверх этого Он дал им. Но и пророчествующий о рождении Младенца сказал: масло будет есть и мЕдь ( Ис . 7:15 ) » (Paed. I, 6, 52, 1). В комментарии к этому месту А.-И. Марру пишет: «Мы находим в изложении набор мессианских видов пищи, которые также являются литургическими элементами (хлеб, вино вода, мед, масло)» [Clément d’Alexandrie 1960: 205, n. 1]. Отметим, что в Вульгате, как у Климента, упомянуто «молоко», lac, а не «соль» ( Sir . 39:31) [Stӓhlin 1901: 56].
Кроме игры словами πυρὸς – πυρός у Климента встречается сочетание πυραμίδος – πυρός: «<…> Сверху ковчег доходит размером до одного локтя, заостряясь от широкого основания подобно пирамиде <πυραμίδος τρόπον>, символ очищае- мых и испытываемых огнем (διὰ πυρός)» (Strom. VI, 11, 86, 3). Очевидно, выбор данных слов не был случайным, однако мы едва ли вправе говорить о том, что Климент и эту «этимологическую связь рассматривал как знаменательную».
Утверждать, что в разбираемом отрывке сказывается эпикурейское учение о языке, нам не позволяет не только тот факт, что сам Климент об этом специально не говорит, но и очевидное несоответствие падежей двух этих слов и отсутствие реальной связи между ними. Мы не рискнем, как это делает Иттер, настаивать, что «пшеница порождается из огня или рождается от него». Кроме того, тело Иисуса Христа воскресло не в огне. Связь была бы более осмысленной, если бы речь шла об огне и хлебе или хотя бы об огне (אש [’ēš]) и пироге (אשישה [᾽ăšîšāh]), как в древнееврейском языке. Таким образом, перед нами обычная словесная игра, появление которой скорее можно было бы объяснить влиянием на Климента стоической теории, которая «стремится всеми способами доказать наличие сходства между наиболее примитивными словами и обозначаемыми предметами» [Верлинский 2006: 88]. Стоики, склонные устанавливать различные словесные соответствия, могли подсказать Клименту идею связать между собой слова с общим элементом –πυρ–. Известно, что александрийский христианский автор широко использовал стоические этимологии [Treu 1961: 192–195]. Однако при всей любви Климента к использованию «истории слов» представляется маловероятным, что он был глубоко убежден в правильности учения о связи между предметами, названия которых были похожи. В «Увещевании к язычникам», он, возведя слово мистерии либо к слову μύσος «позор», либо к имени Миунта, погибшего на псовой охоте, либо к слову мифы (Protr. 2, 13, 1–2), восклицает ниже: «О поистине святые мистерии!» (Protr. 12, 120, 1). Его не смущает платоновское объяснение слова θεός (Protr. 2, 26, 1; ср.: Plat. Crat., 397 d). «Происхождение» слова не могло скомпрометировать или возвысить обозначаемое им понятие. Рассуждения Климента об этимологиях оставались лишь средством привлечь внимание читателей и доказать им свою правоту, но не отражением его философских взглядов. Урсула Трой справедливо замечает по этому поводу, что он был далек от того, чтобы примкнуть к определенной школе [Treu 1961: 198]. Пользуясь случаем, хочу выразить глубокую благодарность профессору А. Л. Верлинскому, давшему мне много ценных советов относи- тельно гипотетического влияния эпикуреизма на Климента. По мнению Александра Леонардовича, «явление, которое Фергюсон находит у Климента, не имеет ничего общего с эпикурейской теорией. Даже если бы Климент имел в виду, что звуковое сходство pyr и pyros как-то указывает на реальное родство этих предметов, то это скорее напоминало бы этимологические и звукомиметические свойства слов в духе стоической теории или платоновского “Кратила”».
Посмотрим, можно ли объяснить словесные украшения у Климента влиянием на него какой-нибудь существовавшей в его эпоху литературной или иной традиции. Время написания «Педагога» совпадает с временем расцвета Второй софистики, представители которой пытались воздействовать на своих слушателей, в том числе ритмом, гомеоте-левтами и другими подобными приемами. Климент, по всей видимости, при создании «Педагога» использовал труды некоторых из тех авторов (например, Фаворина), которые относятся к «софистам» [Gabrielsson 1906: 80–85]. Труд «Пирующие софисты» Афинея, написанный почти в те же годы, что и «Педагог», содержит много примеров словесной игры. Приведем несколько примеров из первой книги: «И словесное устроение есть подобие роскошного обеда и снаряжение ( διασκευή ) книги <есть подобие> приготовления ( παρασκευῆς ) на обеде» (Deipn. I, 1); «поварское колдовство ( τὰς μαγειρικὰς μαγγανείας )» (I, 15); «<что> …облизывал губы ( περι λείχ ειν τὰ χείλ η )» (I, 38). В небольшом отрывке (семь строчек) (Deipn. I, 44) появляются слова ὕδωρ «вода» (3 раза), ἱδρῶτα (мн. ч.) «пот» (1 раз), ἱδροῦν «потеть» (1 раз), ἱδροῦντες «потеющие» (1 раз). Тертуллиан, творчество которого связывают со Второй софистикой, так описывал павлина: «многоцветный и разноцветный и пестроцветный (multicolor et discolor et versicolor)» (De pall. 3, 1). Современный апологету мир он характеризовал как «более приятный, чем сад Алкиноя и розарий Мидаса (Alcinoi pometum et Midae rosetum)» (De pall. 2, 7). Подобный прием характерен и для старшего современника Тертуллиана, Апулея, также принадлежавшего ко Второй софистике, например: «Да удалят прочь огни, да разбросают костер (procul ignes amolirentur, rogum demolirentur)» (Florid. 19). По нашему мнению, однако, появление у Климента словесной игры типа ὁ πυρὸς <…> διὰ πυρός не следует объяснять влиянием Второй софистики, так как подобный прием не был неотъемлемой принадлежностью текстов, созданных ее представителями.
Игра слов была очень характерна для ветхозаветных текстов. Достаточно посмотреть на первые стихи из «Псалтири», «Песни песней», пророка
Исайи: « БлжЕнъ 'nwx [ ’asre ] м^жъ wxn [ ha’is ] , иже n^x [ ’aser ] не йде на еовЕтъ ненеетйвыхъ » ( Пс . 1:1). « Mvpo з^ [ semen ] изл|'аное ймд твое ~а^ [ sameka ] » ( Песн . 1:3). « Саышй , нбо та^ ow [ sim‘u samayim ] » ( Ис . 1:2). Говоря об игре слов в новозаветных текстах, сошлемся на слова С. С. Аверинцева: «Родным языком первохристиан и Самого Иисуса был арамейский, т.е. определенная фаза того самого языка, который на более поздней стадии принято называть сирийским <…>. Кое-что лучше угадывается в сирийских версиях Евангелий, в целом вторичных по отношению к грекоязычному канону, очень ранних (с I–II вв.) и, по-видимому, сохранивших какие-то фрагменты первоначального изустного арамейского предания. <…> Вот рассматривается случай, “если у кого-либо из вас сын или вол упадет в колодезь” (Лук. 14, 5). Почему, собственно, такое сопряжение “сына” именно с “волом”? Грекоязычные переписчики со временем даже заменили “сына” на “осла” (каковое изменение перешло в латинский и другие переводы, вплоть до русского). Но дело в том, что по-арамейски все три существительных созвучны почти до неразличимости: “сын” – bera, “вол” – beira, “колодезь” – bēra. Для нашего уха такие созвучия отдают чем-то не очень торжественным, и мы называем их каламбурами; но учительная традиция восточных народов искони пользовалась ими как праздничным убранством речи и одновременно полезной подмогой для памяти, долженствующей цепко удержать назидательное слово» [Аверинцев 1987: 20–21].
Трудно сказать, знал ли Климент арамейский или древнееврейский. Несомненно, однако, что он имел представление о языке, который он называет «еврейским». Так, в «Увещевании к язычникам» он пишет: «<…> Надо заметить, что имя Ἕυια, произнесенное с густым придыханием, по-еврейски означает “самка змеи”» (Protr. 2, 12, 2). Климент мог здесь иметь в виду либо древнееврейское слово אפעה [’eф‘еh] (Ис. 30:6; 59:5; Иов 20:16), либо его аналог в арамейском. В «Педагоге» он замечает: «свет и слава, и хвала с мольбою к Господу, – ведь так переводится на греческий язык Осанна (Paed. I, 5, 12, 5.) Ὡσαννά, евр. הֹוׁשע־נא – ср.: הֹוׁשיעה נא [hôšî‘āh nnā’] «спаси же!» (Пс. 118:25), от глагола יׁשﬠ, имеющего в пароде HIPH'IL значение «deliver, save (prop. give width and breadth to, liberate)» [Brown-Driver-Briggs 1999: 446]. В Септуагинте (Пс. 117:25) эти слова переводятся именно так: σῶσον δή. Однако евангелист Лука, которому вторит Климент, вместо слов «weahha въ вышнихъ» (Мф. 21:9) пишет «й елава въ вышнйхъ» (Лк. 19:38). Впрочем, Лука, вероятно, знал арамейский. Как сообщает Евсевий со ссылкой на Климента, Послание к евреям было написано Павлом для евреев по-еврейски (т.е. по-арамейски), а Лука старательно перевел его для греков (Eus. H. E. VI, 14, 2–4). Однако, даже не зная еврейского языка, Климент вполне мог иметь достаточно полное представление о широком использовании в нем каламбуров и частично перенять этот обычай. Цитирование Климентом в Paed. II, 8, 76, 5 стихов из книги Сираха (Сир. 39:26–27=32–33), где рядом оказываются слова πῦρ и πυροῦ, наводит на мысль, что эту игру слов александрийский пресвитер почерпнул именно из греческого текста Библии. Заметим также, что Пантен, учитель Климента, по словам последнего, был еврей из Палестины (Clem. Al. Strom. I, 1, 11, 2; ср.: Eus. Hist. еccl. V, 11, 2–4), об обнаружении которым в Индии написанного еврейскими буквами Евангелия от Матфея, сохранившегося до его времени, сообщает Евсевий Кесарийский (Eus. Hist. еccl. V, 10, 3).
В анализируемом в статье отрывке есть, по крайней мере, еще один пример парономазии: ἐκ φθορᾶς [ p hth orās ] καὶ σπορᾶς [s porās ] «из тления и сеяния». Это также говорит о том, что для Климента игра словами ὁ πυρὸς <…> διὰ πυρός была лишь одним из многих «каламбуров», призванных сделать фразу более запоминающейся, но не несла в себе никакого другого более глубокого смысла.
По нашему мнению, написав: «Здесь нужно отметить тайну хлеба, поскольку Он говорит о нем как о <Своей> плоти, разумеется, как о <плоти> воскресающей – точно так же как из тления и сеяния воскресает пшеница – и посредством огня приготовляемой (или: уплотняемой) на радость Церкви, как выпекаемый хлеб», Климент хотел через намек на воспламенение Вселенной (ἐκπύρωσις) сказать о трапезе Церкви в вечности (ср.: Мф. 26:29), когда верные будут способны вкушать уже твердую пищу, а не одно молоко. Ведь выше Климент высказал предположение: «Разве <апостол,> сказав, маекОмъ напойхъ, <не> намекнул на совершенную радость (εὐφροσύνην), <заключающуюся> в Логосе-молоке, – на познание истины? И то, что следует далее - не врАшномъ: ибо не и можаете (1 Кор. 3:2), – может намекать на явное откровение в будущем веке, наподобие твердой пищи (врш^ато^ 5^nv), ЛЙЦЕмъ къ айц^ (1 Кор. 13:12)» (Paed. I, 6, 36, 5). В самом деле, глагол συνιστάναι, от которого образовано причастие συνισταμένη, употребляется у Климента в том числе в значении «делать плотным, густым, свертывать» (т.е. делать более твердым): ἡ πυτία συνίστησι τὸ γάλα «сычужок свертывает молоко» (Paed. I, 6, 48, 1). Напомним, что после разбираемого отрывка Климент пишет: «Но ведь у нас более ясно будет показано это в работе “О воскресении”», а значит, сказанное им выше должно иметь отношение к будущему веку.
Однако, будучи аллегорией небесной Евхаристии, разбираемый нами отрывок является описанием земной. В самом деле, радость ( εὐφροσύνη) (слово из Paed. I, 6, 46, 3) появляются в «Педагоге» там, где речь идет о Евхаристии на земле. «Царь, Христос, взирает сверху на наш смех и, приникнет бкнОмъ (Быт. 26:8), как говорит Писание, созерцает благодарение ( τὴν εὐχαριστίαν ) и благословение ( τὴν εὐλογίαν ), и ликование ( ἀγαλλίασιν ), и радость ( εὐφροσύνην ), а еще содействующую <им> стойкость и соединение их — Церковь, Свою Церковь, показывая ей лишь Свое Лицо, в котором она нуждается, достигающая совершенства благодаря царской главе» (I, 5, 22, 3). В этом отрывке первые два слова, употребленные с артиклями, εὐχαριστία и εὐλογία , являются также литургическими терминами, обозначающими Причастие и благословенный хлеб соответственно: последний, называемый в византийском обряде также антидором ( ἀντίδωρον ) (т.е. «Вместо Даров»), верующие принимали вместо Причастия [Иларион 2010: 106, прим. 7]. Слово «ликование» (ἀγαλλίασις ) употребляется в Новом Завете четыре раза, причем один раз — в Деян. 2:46 — в евхаристическом контексте: « По БЕА ЖЕ дни ТЕрПАфЕ ЁДИНОДКШНШ БЪ ЦрКБи И ЛОМАфЕ ПО ДОМ^МЪ ХЛЕБЪ Пр1нм4$ ПИф^ БЪ радоЕТи (ev «YaAAiaaei) и бъ проЕТотЕ ЕЕрДЦЛ ».
Соединение хлеба и огня в контексте описания обычной Литургии встречается не только у Климента: «В этом хлебе вам дается учение, каким образом вы должны любить единство. Ведь разве тот хлеб изготовлен из одного зерна? Разве не многими были пшеничные зерна? Но прежде чем они сделались хлебом, они были разобщены; они соединились водою после некоего сокрушения/растирания. Ибо если пшеница не будет перемолота и окроплена водою, она не приобретет тот вид, который называется хлебом. Так и вы сначала были словно бы перемолотыми – смирением поста и таинством изгнания <бесов>. Присоединилось крещение и вода: вы как бы были окроплены, чтобы приобрести вид хлеба. Но хлеба без огня еще нет (sed nondum est panis sine igne)»
( Aug. Sermo 227).
О выпеченном хлебе в евхаристическом контексте говорит Ипполит Римский. Апостольское предание. 22. «В субботу и воскресение епископ, если может, своей рукой пусть раздает всему народу причастие, в то время как диаконы преломляют [хлеб]; и пресвитеры пусть отломят [себе] печеного хлеба (курсив наш. – А.Б. » (пер. прот. Петра Бубу-руза).
О церковном единстве в Евхаристии сообщается в одном из самых древних христианских памятников: «Как этот кусок <хлеба>, будучи рассеян ( διεσκορπισμένον ) по возвышенностям и собран ( συναχθέν ), стал одним, так да соберется Твоя Церковь от пределов земли в Царствие Твое» ( Di-dache . 9, 4). Подобным образом пишет и свмч. Киприан: «Самим этим таинством обозначается наш соединившийся народ, чтобы мы знали, что как многие зерна (grana), собранные вместе, перемолотые и смешанные, составляют один хлеб (panem unum), так во Христе, Который есть Хлеб Небесный, есть единое тело, с которым соединено и объединено множество нас» ( Cyprianus . Epist. 63, 13).
Подводя итог, можно сказать, что словесная игра Климента Александрийского, оставаясь удачной и остроумной находкой, не должна рассматриваться как свидетельство о его желании сказать нечто большее, чем то, что он говорит. Говорит же он о Евхаристии в Церкви на земле, аллегорически намекая на Церковь небесную.
Отметим, что в последующие века связь между огнем и Причастием Святых Христовых Тайн стала общим местом святоотеческой письменности. Прп. Ефрем Сирин (IV в.) говорит: «Огнем бессмертным являются Тайны Христовы (πῦρ ἀθάνατόν ἐστι τὰ μυστήρια Χριστοῦ). Поэтому не хлопочите о лишнем, дабы не сгореть в причащении им. Патриарх Авраам предложил небесным ангелам земную пищу, они стали есть. Воистину великое чудо — созерцать бесплотных, вкушающих на земле пищу плотских. Однако то, что сотворил для нас Единородный Иисус Христос, наш Спаситель, превосходит всякий ум и разум: Он предложил нам, телесным, огонь и дух и есть и пить, <…> то есть Тело Свое, а также Кровь Свою» (Ephraem Syr. De iis, qui Filii Dei naturam scrutantur, Р. 208). Свт. Иоанн Златоуст († 407 г.) призывает: «Учитывай вкушение от сей устрашающей трапезы и сияние брызжущего оттуда огня (τοῦ ἐντεῦθεν ἐκπηδῶντος πυρὸς τὴν φαιδρότητα), и <его> пламенеющую силу» (Homil. in Gen. 24, 8). Ученик свт. Иоанна Златоуста прп. Исидор Пелусиот, рассматривая вкушение пасхального агнца в Ветхом Завете как прообраз вкушения евхаристического агнца, пишет, что огонь, на котором его пекут, знаменует «огонь Божественной сущности, непостижимо соединив- шийся с плотью, ныне нами вкушаемой и дарующей оставление грехов» (Isid. Pel. Ep. 219).
Описание Евхаристии с использованием образов света и огня часто встречается у прп. Симеона Нового Богослова. «Такой символизм традиционен для отношения к Евхаристии в Восточной Церкви: он находит отражение и в сочинениях Святых Отцов, и в богослужебных текстах. Симеон Метафраст, старший современник Симеона Нового Богослова, в своих молитвах перед причащением развивает тему огня, который не попаляет грешников, но очищает грех» [Иларион 2010: 116]. В «Последовании ко святому Причащению ( Ἡ ἀκολουθία xq? ^ETaAq^eo^ )» говорится: « TpEnE^tf , Пр'ИМЛА ОГНЬ , ДА НЕ WHAAWCA BKW бОСКЪ И ^KW трлвА . <..> Бжтбенный хлЕбъ жизни 60 чрЕвЕ тбоемъ , бгомТи , истинно ИспечЕса » (Песнь 8). Ниже сказано: « ХотА Усти , нелобЕне , тЕло 6ЛННЕ , СтрАхомъ приступи , ДА НЕ ^палишиса : огнь бо есть (^q фAEYq^• пир tuyx^vei )». Подобный образ обнаруживаем и в «Молитве прп. Симеона Нового Богослова»: «<…> РАд^аса вк^пЕ И трЕПЕ^А , бгнЕви причл^АксА ( τοῦ πυρὸς μεταλαμβάνω) <…> ». В Средние века связь между огнем и Евхаристией сделалась неразрывной и огонь стал рассматриваться не как средство приготовления Агнца, а как его невидимая телесным очам сущность.
THE IMAGE OF FIRE IN THE DESCRIPTION
OF THE EUCHARIST BY CLEMENT OF ALEXANDRIA
Alexander Ju. Bratukhin
Reader of World Literature and Culture Department
Perm State National Research University
In this article the passage from the Paedagogus (the Instructor ) by Clement of Alexandria (Paed. I, 6, 46, 3) is investigated. In the course of the investigation it is proved, that the words from this passage (ὁ πυρὸς <…> διὰ πυρός «the wheat <…> through fire») are not to be regarded as a key for understanding of Clement’s teaching about the resurrection, and it is disproved the opinion, that this author was under the Epicurean influence of language. The Alexandrian presbyter by using this wordplay aspired to attract his readers’ attention to his topic only – to the description of the celestial liturgy – and so was found to be a heritor of the Near-Eastern tradition to ornament a speech by puns, which make easier memorizing of the told.
Список литературы Образ огня в описании евхаристии у Климента Александрийского
- Musaios. 1.0d-32. by Darl J. Dumont and Randall M. Smith. 1992-1995
- Patrologia Latina Database. Electronic Book Technologies, Inc. and Chadwyck-Healey Ltd. 1993-1996
- Аверинцев С. С. От берегов Босфора до берегов Евфрата/пер., предисл. и коммент. С. С. Аверинцева. М.: Наука, 1987. 360 с
- Верлинский А. Л. Античные учения о возникновении языка. СПб: Филол. фак-т СПбГУ; Изд-во СПбГУ, 2006. 412 с
- Иларион (Алфеев), Архиепископ Волоколамский. Преподобный Симеон Новый Богослов и православное Предание. Изд. 4-е, испр. СПб: Изд-во Олега Абышко, 2010. 448 c
- Bigg Ch. The Christian Platonists of Alexandria. Oxford, 1913. 150 p
- The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon. Peabody, Mass.: Hendrickson Publishers, 1999. XXI, 1185 p
- Clément d’Alexandrie. Le Pédagogue. Livre I/Introduction et notes de H.-I. Marrou, traduction de M. Harl. Paris, 1960. 298 р
- Daniélou J. Message évangélique et culture hellénistique aux IIe et IIIe siècles. Tournai: Desclée & Co., 1990. 482 р
- Douglass J. R. “This flesh will rise again”: Retrieving early Christian faith in bodily resurrection. A dissertation submitted to the McAnulty Graduate School of Liberal Arts. Duquesne University, 2007. X, 216 p
- Edsman C.-M. Le baptême de feu. Leipzig, Uppsala, 1940. 237 p
- Ferguson J. The achievement of Clement of Alexandria//Religious Studies. 1976. Vol. 12. P. 59-80
- Gabrielsson J. Über die Quellen des Clemens Alexandrinus. Teil I. Upsala Akademische Buchhandlung C. J. Lundström, 1906. XI, 253 S
- Itter A. C. Esoteric teaching in the Stromateis of Clement of Alexandria. Leiden; Boston, 2009. 233 p
- Stӓhlin O. Clemens Alexandrinus und die Septuaginta. Nürnberg: Buchdruckerei von J. L. Stich, 1901. 78 S
- Treu U. Etymologie und Allegorie bei Klemens von Alexandrien//Studia patristica. 1961. Vol. 4, Part 2. S. 191-211