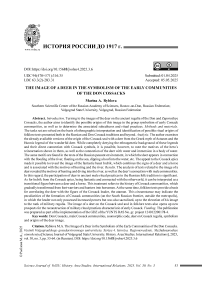Образ оленя в символике ранних сообществ донских казаков
Автор: Рыблова М.А.
Журнал: Вестник ВолГУ. Серия: История. Регионоведение. Международные отношения @hfrir-jvolsu
Рубрика: История России до 1917 г.
Статья в выпуске: 3 т.30, 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение. Обращаясь к изображениям оленя на древних регалиях донских и запорожских казаков, автор формулирует задачи выявить возможные истоки этого образа в групповой символике ранних казачьих сообществ, а также определить связанные с ними субкультуры и обрядовые практики. Методы и материалы. Поставленные задачи решаются на основе этнографической интерпретации и определения возможных обрядовых истоков фольклорных текстов, представленных как в общерусской и донской казачьей традициях, так и за их пределами. Анализ. Автор рассматривает уже имеющиеся версии происхождения казачьей печати с оленем от греческого мифа об Актеоне и гуннской легенды о чудесном олене. При полном отрицании этногенетической подоплеки этих легенд и их прямой связи с казачьей символикой можно, однако, отметить проявленные в них мотивы перевоплощения героя, а также связь оленя с водой и погружением в водное пространство. Эти же мотивы обнаруживаются и в текстах русской крестьянской среды, в которых олень предстает в связи с разливом реки, плавающим по морю, окунающим в воду копытце и пр. Обращение же к казачьим былинным песням позволило выявить образ фантастического зверя Индрика, сочетающего в себе признаки оленя и коня и связанного с мотивами охоты, всадничества и рекой. Результаты. Проведенный анализ текстов, связанных с образом оленя, позволил выявить его связь с мужскими сообществами. Показательно в связи с этим и участие оленя в древних мужских обрядовых практиках в русской народной традиции. Что касается Индрика из казачьих былинных песен, то, будучи фантастическим и связанным с иномирьем, он может трактоваться как фигура переходная – между оленем и конем – и отсылать к реалиям истории казаков с переходом их сообществ от пешего строя и охоты – к всадничеству. Вместе с тем фольклорные тексты дают основание для соотнесения оленя с фигурой казачьего предводителя – атамана. Это обстоятельство может указывать на особенности формирования казачьих сообществ (на южнорусском фронтире, вне пределов метрополии), в которых предводитель не только обладал повышенными полномочиями, но и сакрализовывался вплоть до возведения его образа в ранг общевойсковой регалии. Вместе с тем образ оленя на казачьей печати может служить еще одним свидетельством того, что при формировании своих сообществ донские казаки обращались в том числе и к опыту различных форм мужских сообществ, традиции которых были уже утрачены в метрополии, но позволяли выживать в новых, весьма экстремальных условиях южнорусского фронтира. Образ оленя на казачьей печати и в фольклорных текстах открывает также новые перспективы для реконструкции воинских обрядовых практик, характерных для ранних казачьих сообществ. Финансирование. Публикация подготовлена в рамках реализации ГЗ ЮНЦ РАН 2024–2026 гг. «Казачество в цивилизационном освоении Россией южного фронтира», № гр. проекта 124012200178-4.
Донские казаки, мужские казачьи сообщества, зооморфный код, олень на казачьих регалиях, символика и истоки образа оленя
Короткий адрес: https://sciup.org/149148809
IDR: 149148809 | УДК: 94(470+571):316.35 | DOI: 10.15688/jvolsu4.2025.3.6
Текст научной статьи Образ оленя в символике ранних сообществ донских казаков
DOI:
Цитирование. Рыблова М. А. Образ оленя в символике ранних сообществ донских казаков // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2025. – Т. 30, № 3. – С. 53–64. – DOI:
Введение. В ранней истории донских казаков до настоящего времени остается еще немало слабо исследованных тем и сюжетов. Это связано в первую очередь со скудостью источников, а также с их спецификой. Преимущественно они относятся к числу официальных документов и с их помощью трудно судить об устройстве внутренней жизни ранних казачьих сообществ. Что касается внешних наблюдателей, то они, отражая какие-то моменты социального и политического устройства жизни казаков, не имели возможности в полной мере описать и оценить внутреннюю структуру их сообщества и уж тем более выявить мировоззренческие принципы, на которых она выстраивалась. В такой ситуации для исследователей особый интерес представляют источники, предназначенные для внутреннего пользования сообщества. К ним в первую очередь относятся фольклорные тексты, а также предметные символы, созданные внутри казачьих братств: печати, гербы, личные воинские знаки и пр.
Фольклорные тексты и предметные знаки в виде воинских регалий, будучи сложными, многоплановыми семиотическими системами, содержат в себе в том числе и зоо- и орнитоморфные образы. Зоо- и орнитоморф-ные коды вообще широко использовались традиционными сообществами и маркировали в первую очередь определенные половозрастные группы. Это связано с универсальностью категорий пол и возраст и их ключевой ролью в выстраивании традиционных сообществ. При этом столь же универсальными были и принципы использования зоо- и орнитоморф-ных образов для определения разных половозрастных групп. Так, образы диких птиц и животных обычно маркируют добрачные половозрастные статусы и группы, а домашние копытные – мужские и женские группы семейных. Имеют свою специфику в архаичных традициях и зоо-, и орнитоморфные образы воинских групп. В их арсенале были образы не просто диких, но хищных птиц и зверей. Если же у них были представлены копытные, то речь шла о диких копытных животных.
Приступая к исследованию символики ранних донских казачьих сообществ, я исходила из утвердившегося уже в отечественном казаковедении мнения о том, что они воспроизводили в Диком поле ситуацию отката к архаике и выстраивали свои социальные структуры, опираясь в том числе и на опыт мужских сообществ, к коим могут быть отнесены – русская дружина, крестьянские братства, среднеазиатские и северокавказские мужские союзы и пр. [21]. По этой причине я попыталась обнаружить в донских текстах образ волка, характерный для воинских союзов многих народов Евразии. Эти поиски не увенчались успехом: образ волка в связи с казаком-воином на Дону практически отсутствует и лишь единично представлен в традиции кубанских казаков. Зато очень часто в донском фольклоре встречаются образы хищных птиц – сокола и орла. Соколиная символика казачьих сообществ уже рассматривалась мною в книге «Донское братство» [20, с. 290– 313], а также в отдельной статье [19]. Соколы предстают в качестве общегруппового символа в значительном количестве фольклорных казачьих текстов, уступая лишь коню. Можно объяснить численное преимущество сокола над конем тем, что сокол был символом всего донского сообщества (как группы молодых мужчин), а конь был связан с фигурой его предводителя – атамана. На более высокий статус фольклорного коня указывает и казачья былинная песня «Спор сокола с конем», в которой последний предстает в качестве старшего богатыря. И эта песня, и в целом образ коня в казачьей традиции в той или иной степени уже анализировались [17], была высказана мысль о возможном соотнесении казачьего коня с образом атамана [20, с. 319].
Однако никто из современных исследователей до настоящего времени не обращался к образу оленя, изображенного на самой древней (из известных) регалии Донского войска – его печати, а также на печатях запорожских казаков. Между тем олень относится к группе копытных животных, не только обитающих в дикой природе, но и имеющих стадный, то есть коллективный характер. К тому же олени (в отличие от соколов и волков) не образуют устойчивых семейных пар, их семьи представляют собой небольшую группу из разновозрастных особей. В таком случае олень (как глава такой группы в реальной жизни) вполне мог быть символом предводителя казачьего братства, что, впрочем, еще необходимо обосновать.
В целом в связи с изображением оленя на казачьих печатях возникает несколько вопросов. Был ли он групповым знаком всего казачьего братства или же символом его предводителя – атамана? Почему вообще олень оказался в числе казачьих символов? Соотнесение воина с хищной птицей или хищным зверем объясняется особым (маргинальным) статусом воина в традиционной культуре, где он предстает в качестве нарушителя главного запрета – на пролитие крови. Что касается оленя, то это мирное животное в традициях многих народов часто выступает в качестве жертвенного и, как может показаться, не отражающего характер мужчины-воина. Как же тогда объяснить изображение пораженного стрелой оленя на казачьих регалиях? С какими структурами и обрядами он мог быть связан?
Методы и материалы. Для поиска ответов на эти вопросы мы обратимся далее к образу оленя, представленного в фольклорных текстах, исходя из уже обозначенных недавно возможных направлений этого поиска [22]. Обращаясь к фольклору, я предпринимаю попытку рассмотреть уже имеющиеся версии происхождения казачьей печати с оленем от греческого мифа об Актеоне и гуннской легенды о чудесном олене (высказанные в разное время Е.П. Савельевым и Г.В. Губаревым), но основное внимание сосредоточить на текстах русской крестьянской среды и воинской казачьей. К анализу будут привлечены легенды, сказки, песни, колядки, былины с участием оленя или приближенных к нему персонажей. В ходе исследования поставленные выше задачи будут решаться на основе этнографической интерпретации этих фольклорных источников и определения их возможных обрядовых истоков.
Анализ . Поиски истоков образа оленя на казачьих регалиях. Исследователи казачьей истории считают, что пронзенный стрелой олень, изображавшийся на войсковых печатях, был самым древним символом сообществ донских и запорожских казаков [16, с. 142–143]. Впоследствии печать донских казаков была изменена (при Петре I на ней стали изображать сидящего на бочке казака), а образ оленя, по всей видимости, со временем был подзабыт, во всяком случае, Е.П. Савельев считал, что только «старое казачество» понимало смысл этого символа, а новое забыло «ея значение и только на старых актах оно видит непонятную для него эмблему» [23, с. 3]. По свидетельству Е.П. Савельева, в начале XX в. изображения донской печати с оленем, пораженным стрелой, можно было видеть лишь на старинных донских грамотах, хранящихся в Донском музее [23, с. 3].
В XIX в. на принятых в разное время казачьих гербах (и других регалиях) появится изображение главного символа Российской империи – двуглавого орла, однако впоследствии об олене вспомнят дважды и поместят его на казачьем гербе. Первый раз это произошло в 1918 г., когда было создано казачье государство Всевеликое войско Донское и утверждалась его новая символика. Изображение на голубом поле белого оленя, пронзенного черной стрелой, сопровождалось надписью «Елень пронзен стрелою». Следующее возрождение старого символа произошло в 1991 г. с принятием на первом Большом казачьем круге символики возрождающегося российского казачества. Таким образом, этот символ был дорог казакам и появлялся на их регалиях всякий раз, когда происходило утверждение / возрождение их самобытности и самостийности [15, с. 202].
Первым исследователем, попытавшимся определить истоки происхождения этого символа, был Е.П. Савельев. Он связывал его с древними народами, жившими когда-то в Приазовье и поклонявшимися богине Диане [23, с. 3]. Исследователь обратил внимание на значимость в традиции донских и запорожских казаков таких качеств (сильно их преувеличив), как целомудрие и храбрость, отсылающих якобы к богине Диане. При этом он исходил из собственной теории о древнем происхождении донских казаков, связывая их с некими «гетами-руссами» (или народом «ассаки»), которые, обитали в Приазовье и по берегам Черного моря и поклонялись богине целомудрия Диане, бывшей также покровительницей лесов и диких зверей.
Е.П. Савельев дал свой пересказ легенды, повествующей о том, как «девственная богиня, купаясь в реке, была потревожена одним чужестранным охотником, некием Актеоном, сыном Аристея, увидевшим ея наготу» [23, с. 3]. Далее приведу цитату из статьи: «Разгневанная Диана вмиг своим пламенным взором обратила дерзкого нахала в оленя и пустила в него свою губительную стрелу. Этот миф о Диане и наказанном нарушителе ея целомудрия Актеоне древнее казачество знало и изобразило в эмблеме на своей печати, гласящей: “Блюди целомудрие, казак, иначе будешь наказан, как дерзкий Актеон”». Таково значение древних донской и запорожской печатей [23, с. 3].
Представленная Е.П. Савельевым версия отличается оригинальностью, однако исследователь весьма вольно и неточно пере- сказал миф об Актеоне. Если обратиться к тексту «Метаморфоз» Овидия, то увидим, что Диана не поражала оленя-Актеона стрелой. Разгневавшись на то, что он увидел ее обнаженной, она хотела было «схватить свои быстрые стрелы», но передумала и плеснула в юношу водой из ручья, превратив его в оленя [14, с. 90–91]. Далее у Овидия следует описание того, как юноша превращался в оленя, после чего детально описывается его жуткая смерть от собственных охотничьих собак, которые разорвали его на части. В этом эпизоде, по сути, воспроизводится сцена терзаний, хорошо известная по мотивам прикладного «звериного стиля», который связывается некоторыми исследователями именно с воинской средой [10; 12]. Как видим, в мифе нет и намека на наказание Актеона за нарушение целомудрия Дианы, как нет и его смерти от ее стрелы.
В.Ю. Михайлин и Е.С. Решетникова представили свою трактовку этого мифа и связанных с ним образов греческого прикладного искусства. Они пришли к выводу, что главной темой мифа является ситуация нарушения границы и брачных стратегий (хюбри-са), совершенного Актеоном, и последовавшего за этим наказания. При этом исследователи обратили внимание на то, что в образах живописи Актеон предстает как юноша, и лишь после превращения в оленя получает статус взрослого воина [11]. Зафиксируем также то обстоятельство, что в мифе его трансформация проиcходит у источника воды и после воздействия воды.
Если же вернуться к казачьему гербу, то с преданиями «глубокой старины» связывал оленя на печати казаков и Г.В. Губарев. При этом он обращался к другой легенде – о чудесном олене – относящейся к эпохе великого переселения народов (III–V вв. н. э.) и повествующей о том, как олень перевел гуннов через воды Меотийского озера. В «Казачьем историческом словаре-справочнике» Г.В. Губарев писал: «Легенда о таинственном олене, уходящем от охотников, была известна в По-донье (Танаиде) уже в первые века нашей эры и относилась историками к Киммерийцам, Гуннам и Готам. Она записана Прокопием из Кесарии (Война с Готами), Иорданом (Гети-ка), Созоменом (История церкви) и некоторы- ми другими древними авторами» [4]. Далее Г.В. Губарев предпринимал попытку использовать эту легенду в качестве этногенетического мифа казаков: «Может быть, не случайно иранское понятие “сака” – “олень” вошло в состав нашего первоначального имени Кос-сака. Кос-сака на скифском языке означало «белый олень» [4].
В упоминаемой Г.В. Губаревым легенде речь шла о входящем в водное пространство чудесном олене, по следам которого шли гуннские воины. Эта легенда представляет особый интерес для нашего исследования также и в связи с тем, что описанные в ней действия, во-первых, связаны с военным походом, а во-вторых, происходили в местах формирования донского казачества.
Исследователи считают, что к середине V в. легенда о чудесном олене была широко распространена, причем в нескольких вариантах. В признанной наиболее ранней и полной (среди сохранившихся) редакции Созомена упоминаются две версии – с участием быка и лани: «Однажды случилось, что преследуемый оводом бык перешел через озеро и за ним последовал пастух; увидав противолежащую землю, он сообщил о ней соплеменникам. Другие говорят, что перебежавшая лань показала охотившимся Уннам эту дорогу, слегка прикрытую сверху водою. В тот раз они возвратились назад, с удивлением осмотрев страну, более умеренную по климату и удобную для земледелия, и доложили правителю, что они видели» [7, с. 324–325].
К настоящему времени имеются разные трактовки этой легенды учеными, занимавшимися историей переселения народов. Так легенда трактовалась в качестве этногенетической для гуннов и мадьяр, и олень в таком случае воспринимался исследователями в качестве их прародителя [3]. Очень интересной представляется трактовка, данная З.С. Кузнецовой. Она полагает, что в сообщении Созомена представлено два варианта легенды – более поздний, в котором на смену оленю пришел преследуемый оводом бык (по всей видимости, уходящий корнями, к греческому мифу об Ио, обращенной коровой и преследуемой оводом), и более древний – повествующий о лани, помогающей гуннам. Пытаясь обнаружить истоки этой легенды, исследовательница обра- тила внимание на то, что ее главным ядром является мотив переправы через водное пространство, и со ссылкой на В.Я. Проппа отметила связь этого мотива с представлениями о пути в иномирье. З.С. Кузнецова высказала предположение, что основой легенды о чудесном олене мог быть какой-то из обрядов посвящения: инициация, обряд перехода в другой возрастной или социальный статус. Отметила исследовательница и то, сколь легко произошла в легенде замена оленя – на быка. Что касается этногенетических построений вокруг этой легенды, то, по мнению исследовательницы, они появились гораздо позже [7, с. 334].
Между тем для Г.В. Губарева именно возможный этногенетический подтекст легенды о чудесном олене стал основой для объяснения его наличия на печати казаков. Дело в том, что и Г.В. Губарев, и Е.П. Савельев были сторонниками версии древнего происхождения донских казаков (причем связывали их с разными народами), а потому искали корни этого символа также в глубокой древности и в традициях разных народов.
По поводу древнего казачьего герба с изображением оленя высказался и А.П. Мо-лявко-Высоцкий. Оценивая гипотезу Е.П. Савельева о происхождении казачьего герба от мифа об Актеоне, исследователь усомнился в возможности знакомства казаков с древнегреческой мифологией и писал: «Подобные объяснения при всей их поэтичности грешат против первого правила символики, говорящего, что символы должны употребляться только понятные окружающим» [13]. Далее А.П. Мо-лявко-Высоцкий высказал мысль о связи оленя на казачьем гербе с условиями военно-промысловой жизни казаков, где олень был одним из объектов охоты. Оставляя в стороне семантические аспекты казачьего герба, исследователь обратил внимание на то, что в нем имеются явные нарушения правил геральдики. Согласно этим правилам, нельзя «класть краску на краску или металл на металл». Применительно к казачьему гербу черный олень должен изображаться не на голубом фоне, а на золотом или серебряном, или же серябрян-ный / золотой олень – на голубом фоне [13]. Старинная казачья печать известна нам в черно-белом изображении, но исследователь, видимо, исходил из того, что в 1918 г. на Дону был возрожден старый символ, а не изобретен новый. Об этом же, кстати, писал и Е.П. Савельев [23, с. 3].
Это обстоятельство (вкупе с принципами устройства ранних казачьих братств, где не признавались ничьи прошлые заслуги, а значит, и не мог заимствоваться сообществом герб какого-то ранее титулованного его члена) может лишний раз указывать на «народный характер» казачьего герба, а не на прямое его заимствование из геральдической системы.
Возвращаясь к этногенетическим построениям Г.В. Губарева и Е.П. Савельева и ни в коей мере их не разделяя, отмечу, что образ оленя был широко представлен в разных традициях, у разных народов мира и уже поэтому не стоит ограничивать поиск истоков этого символа у казаков только греко-гуннской средой. Так, олень, представленный в скифском зверином стиле, был впоследствии унаследован аланами, широко и многогранно проявился в воинском эпосе – Нартиаде, где он предстает и как охотничий трофей, и как жертвенное животное, и в качестве вместилища души эпического героя [5, с. 140]. Предания и легенды об олене известны и в славянской, и в тюркской средах [3; 24]. В тюркских преданиях олень также легко заменяется быком, при этом, например, у киргизов их родоначальник в образе быка предстает вышедшим из водной стихии [3, с. 59].
В настоящее время имеется обширная литература, посвященная образу оленя в разных этнических традициях. Символические аспекты, связанные с образом оленя, давно и заинтересованно прорабатываются не только в отечественной, но и в мировой традиции [25–27]. Однако, имея ввиду широкое (практически повсеместное) распространение этого образа в мифологии и обрядовых практиках самых разных народов Евразии, я все же попытаюсь далее сосредоточиться (в поисках возможных истоков образа оленя на донской печати) на русской народной традиции, исходя из утвердившегося в отечественном казаковедении мнения о том, что именно славянский этнический компонент был основой казачьих сообществ, возникавших на рубеже XV–XVI вв. на южнорусском фронтире, где происходили, в том числе, и такие культурные явления, как так называемая вторичная архаика (то есть возрождение собственных забытых традиций под влиянием этнокультурных контактов), являющаяся одним из признаков фронтира с его подвижными и «прозрачными» границами.
Образ оленя в русском фольклоре и обрядовых практиках. Исследователи уже отмечали, что образ оленя довольно широко и разнообразно представлен в русском фольклоре. Подборку этих образов можно обнаружить, например, в статье Г.Г. Шаповаловой [24, с. 220–222]. В русских народных сказках олень предстает в качестве чудесного помощника героя, последний также добывает оленя – золотые рога. В некоторых сказках («Два брата», «Солдат и царь в лесу», «Солдат-богатырь» и др.) герой в своих приключениях следует за оленем. В славянских песнях часто встречается мотив преследования оленя охотником и обещание со стороны оленя принести ему некий дар. В русской песне олень просит охотника не стрелять в него, обещая пригодиться в будущем:
«Не разливайся, мой тихий Дунай,
Не заливай зеленые луга!
Во тех-то лугах ходил белый олень, Ходил белый олень – золотые рога. Мимо тут ехал Иван господин
И ударил оленюшку плетушкой.
Как взговорит ему белый олень, Белый олень золотые рога – Не бей меня, Иван господин, Свет государь Иванович,
В некое время пригожусь я тебе» [1, с. 248].
Помятуя о столь распространенном в традициях разных народов мотиве «олень / бык и вода», обратим внимание на то, что здесь олень связан с возможным разливом Дуная, которого по каким-то причинам хочет избежать герой. Эта песня соотносится с колядками (известными у русских, болгар и сербов), в которых олень предстает плавающим по морю и приносящим на своих рогах девушку [1, с. 249].
Г.Г. Шаповалова свою подборку русских фольклорных текстов, связанных с оленем, заканчивала хороводной песней, приведенной П.И. Мельниковым-Печерским в романе «В лесах» в связи с описанием празднования на Русском Севере Петрова дня. В песне представлен олень, стремящийся к реке, чтобы погрузить в ее воды свое копытце:
«Не стучит, не гремит,
Ни копытом говорит, Каленой стрелой летит Молодой олень!
Ты, Дунай ли, мой Дунай!
Дон Иванович Дунай!
Молодой олень!
У оленя-то копыта
Серебряные.
У оленя-то рога Красна золота!.. Молодой олень!
Ты, олень ли, мой олень,
Ты, Алешенька!
Ты куда-куда бежишь,
Куда путь держишь?
Ты, Дунай ли, мой Дунай!
Дон Иванович Дунай!
Молодой олень!
Я бегу ли, побегу
Ко студеной ко воде,
Мне копытцом ступить,
Ключеву воду студить...» [9, с. 375].
Отмечу, что эта песня, в свою очередь, соотносится с широко распространенными в России представлениями о том, что после Ильина дня нельзя купаться в реках, так как в воду опустил копыто или рог (в варианте – помочился) олень.
Обращение к образу оленя в русской фольклорной традиции потребовалось Г.Г. Шаповаловой для того, чтобы лучше понять анализируемый ею севернорусский обряд под названием момльбы. Кратко суть обряда можно свести к традиции крестьян устраивать на Петров (или Ильин) день коллективные собрания ( брамтчины ) с совместным поеданием мяса жертвенного оленя. В этот день, по преданию, в селения приходили два оленя, одного из них убивали, а второго отпускали на волю. Со временем олень был заменен на быка. Исследовательница видела в этой замене изменения в хозяйственной сфере жизни крестьян – переход от охоты к скотоводству [24, с. 220].
Возвращаясь к казакам, отмечу, что каких-либо прямых аналогий с севернорусскими мольбами обнаружить в их обрядовых практиках не удалось. На Дону были широко распространены и пиры-братчины на Петров день, и коллективное поедание любой убитой на охоте дичи, и представления о том, что после Ильина дня нельзя купаться в реке, однако здесь не обнаружено никаких упоминаний о приходящем к людям олене. Представляется, что не жертвенный олень изображался на казачьих печати и гербе. Но в связи с севернорусским обрядом, в котором олень со временем был заменен быком, вполне правомерно предположить, что в казачьей традиции также могла произойти его замена другим копытным животным. Б.А. Рыбаков на материалах русского прикладного искусства показал, как происходила замена фигуры оленя – быком и конем / всадником, отметив также, что в традициях разных народов известны образы оленя-тура, оленя-лося и оленя-коня [18, с. 82–84]. И в таком случае, возвращаясь к традиции казаков, есть резон обратиться к образу третьего копытного, известного по казачьим былинным песням с именами Индрик и Устиман-зверь. Отмечу при этом, что эти образы встречаются только в казачьей традиции.
Индрик казачьего фольклора как конь-олень. В песне донских казаков представлен образ чудесного Индрика:
«Вот бы из ушей в него во этого Индричка Дым столбом валит,
Из ноздрей ну-ка изо рта у того зверинушки Пышет жаркое поламья,
Бежит этот Индричек извивается, Будто в него грива с хвостом
По чистому по полюшку развивается» [8, с. 205].
В песне уральских казаков дается описание фантастического Устимана-зверя, схожего с Индриком:
«На нем шерсточка, на Устимане, бумажная, А щетинушки на Устимане все булатные, Как на каженной на щетунушке по жемчужине» [6, с. 67].
В описаниях Индрика встречаются также серебряные рожечки, копытца булатные, косточки, как у рыбочки, и глаза, как у ясочки.
Комментируя этот образ, Т.С. Рудичен-ко отмечала, что «картинный» Индрик вызывает самые разные ассоциации – от «шерстинки-серебрянки» русской сказки, «лошади, ук- рашенной жемчугами из “Ригведы” до удивительного коня из «Александрии Сербской», у которого «воловья голова с рогами и рог меж ушами с локоть» [17, с. 195]. Исследовательница не исключала возможности того, что образ Индрика мог возникнуть под влиянием переводных христианских произведений типа «Физиолог» или «Христианская топография» Козьмы Индикоплова. Этот вывод она обосновывала тем обстоятельством, что поиски параллелей этому образу в фольклорных источниках «не принесли пока результатов». Вместе с тем исследовательница отметила, что казачьи былинные песни с участием фантастического зверя представляются вполне самостоятельными текстами, «глубоко фольклорными по сути, органичными по поэтическому языку и совершенными по форме» [17, с. 195].
Итак, фантастический зверь Индрик, по мнению Т.С. Рудиченко, не имеет аналогов в русском фольклоре. Однако я предлагаю обратить внимание на собирательный характер этого зверя: у него хвост и грива, как у коня, серебряные рожечки и косточки, как у рыбоч-ки и т. д. И очень интересно, что в одной из редакций былины упоминаются отросточки на его рогах:
«Ой да, как и рожечки да на Индричку, Они позлачёные,
Ой да, ну, отросточки да на рожечках Они посребрёные» [8, с. 201–202].
Замечу, что отростки на рогах бывают именно у оленей и отошлю к упоминанию золотых рожек у оленя из русской хороводной песни, приведенной П.И. Мельниковым-Печерским. Для нас же важным представляется соединение в образе Индрика нескольких животных, в том числе – оленя и коня.
Можно усмотреть и связь Индрика с иномирьем. Т.С. Рудиченко полагала, что его имя вписывается по звучанию в древнерусскую литературную традицию, где -рик – окончание варяжско-славянских имен Рюрик, Дед-рик, а начальное Инд- может быть связано как с Индей-землей эпического зачина, так и с определением «ин», «инд» – как «иной / другой» или же с указанием на наличие одного рога – инрог – единорог [17, с. 193].
Лично мне представляется более убедительной связь Индирка с Индей-землей, являющейся аналогом иномирья (иной земли). Вообще же в казачьих былинных песнях о фантастическом звере (Идрике / Устимане) представлено 4 основных мотива:
-
1. Устиман-зверь прибегает к Яику, где в него стреляет охотник; земля расступается и поглощает зверя [6, с. 67].
-
2. Индрик-зверь во главе звериного стада прибегает к Тарье-реке, заходит в реку по щиколотку и пьет из нее воду; вода в реке разливается [8, с. 198–199].
-
3. Индрик и казак-охотник. Индрик во главе звериного стада бежит к Сыр-Дарье, за ним гонится охотник – донской казак. Индрик входит в реку, она под ним «взволновалася» [8, с. 205–206].
-
4. Индрик-зверь и богатырь. Богатырь – донской казак скачет на Индрике (с черкесским седлом) навстречу звериному стаду, Индрик заходит в воды Дарьи-реки, река разливается на 12 верст [8, с. 201–202].
Здесь важным представляется то, что Индрик возглавляет звериное стадо, как очевидное указание на его особый статус предводителя.
Обратим внимание на то, что текстах представлены два образа Индрика – убегающего от преследующего его охотника и оседланного донским казаком. Такое развитие образа вполне соответствует историческим реалиям: постепенному переходу казачьих сообществ от охоты (наряду с военным промыслом) к всадничеству, что вовсе не исключает семантической наполненности этих образов.
Кроме того, сюжеты донских былин об Индрике отсылают к приведенному выше тексту русской хороводной песни, в которой представлена связь оленя с водой и мотив погружения им своего копытца в воды реки. Вспомним и тексты из традиции других народов (та же легенда гуннов), в которых олень погружается в воду, а также мнение З.С. Кузнецовой о том, что мотив переправы через реку может рассматриваться в контексте переходно-посвятительных обрядов как путешествие между мирами.
Результаты. Как видим, фольклорный Индрик, с одной стороны, закрывает лакуну с образом оленя в донском фольклоре и разъясняет его присутствие на казачьих регалиях, а с другой – открывает новые перспективы исследования этого образа в контексте мужских обрядовых практик. Для нас значимо также и то, что Индрик, будучи фантастическим и связанным с иномирьем, в то же время вполне может трактоваться как фигура, переходная между оленем и конем, тем более что такие трансформации хорошо известны по мотивам русского прикладного искусства. Подразумевая связь этих трансформаций с реалиями истории казаков (переход их сообществ от пешего строя и охоты – к всадниче-ству), не стоит видеть в вышеприведенных мотивах с образом чудесного копытного отражений реальных охотничьих практик, а понимать и учитывать сакральность охоты в мужских традиционных субкультурах и ее семантическую связь с фигурой предводителя.
Замечу также, что образ оленя-коня, представленный в былинных песнях об Инд-рике и Устимане, имеет свою – казачье-воин-скую – специфику. Здесь нет прямых указаний на жертвенный статус этого животного, зато представлены мотивы состязания, погони, охоты и всадничества, столь характерные именно для казачьих сообществ.
Не исключена и переходно-посвятительная символика этих мотивов. В связи с этим весьма перспективным представляется обращение в дальнейшем к обрядности русского «мужского» праздника – Петрова дня, в котором присутствовали, в том числе и купания молодежи в реке. Не менее актуальным, на мой взгляд, оказывается привлечение к анализу в контексте обрядов перехода былинных мотивов, связанных с погружением богатырей (например, Добрыни) в воды реки, происходившие именно на Петров день. Впервые на инициационный характер этого мотива (погружение молодца в женское начало реки или переправа через нее) обратила внимание Т.Б. Бернштам [2], но эта ее мысль до сих пор не получила дальнейшего развития. Вместе с тем нуждается в доработке и версия о возможном изображении на казачьем гербе «жертвенного оленя».
Олень на казачьих регалиях указывает также на отличие донского казачьего братства от мужских сообществ Кавказа и Средней Азии, у которых в качестве символов мужских воинских сообществ использовался общегрупповой образ / знак – волк или сокол / орел. Это обстоятельство может указывать на особенности формирования казачьих сообществ на южнорусском фронтире. В отличие от кавказских и среднеазиатских мужских союзов, вышедших из родовых структур и продолжавших существовать в рамках сельских сообществ, казаки изначально формировались за пределами метрополии, вне ее родовых / семейных, общественных и политических структур, к тому же в экстремальных условиях постоянно идущей войны. Отказавшиеся от мирной жизни и выбравшие статус профессиональных воинов, они создавали именно воинские сообщества, в которых предводитель не только обладал повышенными полномочиями, но и сакрализовывался. Это обстоятельство также может служить косвенным указанием на связь оленя на казачьем гербе с образом предводителя – атамана.
Вместе с тем образ оленя на казачьей печати может служить еще одним свидетельством того, что при формировании своих сообществ донские казаки обращались в том числе и к опыту различных мужских сообществ, традиции которых были уже утрачены в метрополии, но позволяли выживать в новых, весьма экстремальных условиях южнорусского фронтира.