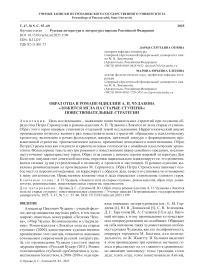Образ отца в романе-идиллии А. П. Чудакова «Ложится мгла на старые ступени»: повествовательные стратегии
Автор: Орлова Д.С., Елепова М.Ю.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Русская литература и литературы народов Российской Федерации
Статья в выпуске: 5 т.47, 2025 года.
Бесплатный доступ
Цель исследования – выявление повествовательных стратегий при создании образа отца Петра Стремоухова в романе-идиллии А. П. Чудакова «Ложится мгла на старые ступени». Образ этого героя впервые становится отдельной темой исследования. Нарратологический анализ произведения позволил выявить ряд повествовательных стратегий: обращение к идиллическому хронотопу, включение в роман фольклорных жанров, цитатный дискурс с формированием провокативной стратегии, трагикомическое начало, применение ненадежного повествования. Образ Петра Стремоухова как создателя и хранителя семьи соотносится с семейным идиллическим хронотопом. Фольклорные тексты внутри романного повествования (жанр семейного предания, пословицы) уточняют характеристику героя. Образ отца связан с вечным героем мировой литературы Дон Кихотом: ощущая гнет советской системы, персонаж парадоксально идеализирует ее, это романтик, всеми силами души устремленный к великому в прошлом и настоящем. В романе-идиллии выявлены реминисценции из произведения М. Сервантеса. Образ Петра Стремоухова занимает особое место в персонологии романа: он коррелирует с образом деда, зачастую становясь по отношению к нему антагонистом. Нравственное влияние отца и деда определяет становление главного героя.
А. П. Чудаков, «Ложится мгла на старые ступени», роман-идиллия, образ отца, донкихотство, реминисценция, повествовательные стратегии, персонология
Короткий адрес: https://sciup.org/147250795
IDR: 147250795 | УДК: 82-31:801.73 | DOI: 10.15393/uchz.art.2025.1199
Текст научной статьи Образ отца в романе-идиллии А. П. Чудакова «Ложится мгла на старые ступени»: повествовательные стратегии
Александр Павлович Чудаков – ученый-филолог, автор множества научных работ, в том числе широко известных монографий «Поэтика Чехова», «Мир Чехова. Возникновение и утверждение». Роман-идиллия «Ложится мгла на старые ступени» (2000), единственное художественное произведение этого автора, становится знаковым сочинением современной русской литературы. За это произведение Чудаков удостоен звания лауреата премии «Русский Букер» (2011). Роман, отличающийся глубиной проблематики и художественным богатством, в 2000–2010-е годы при
влек внимание литературоведов (см.: Е. М. Гордеева [4], Ю. В. Доманский [5], С. В. Зеленцова, Д. С. Тарухтина [8], А. Степанов [11] и др.). Научный интерес к этому произведению в отечественном литературоведении не ослабевает. Обращает на себя внимание такая художественная особенность романа Чудакова, как его полифоничность, оперируя термином М. Бахтина, или полимодальность, по Ж. Жанетту. И. Булкина выделяет в этом произведении три основных звучащих голоса и расставляет их от главного к сравнительно наименее значимому: голос традиции, голос деда; голос отца; голос повествователя Антона, художественного альтер-эго автора1. Роман представляет собой прихотливую цепь воспоминаний нарратора. Ключевое место в этих воспоминаниях занимает образ деда. Голос отца то звучит в унисон с голосом деда, то вступает с ним в противоречие. Антон оказывается между двумя звуковыми волнами. Голоса вводятся в роман при помощи использования разных повествовательных стратегий. Теоретической разработкой теории повествования, принципов наррато-логии занимались М. Бахтин [2], В. Тюпа [12], В. Шмид [14], Ж. Жаннет [7], Ю. Кристева [10].
Цель исследования – через анализ повествовательных стратегий рассмотреть образ отца, а именно выявить в нем черты вечного образа Дон Кихота, уточнить его место в художественном произведении по отношению к образам деда и главного героя Антона Стремоухова.
***
Жанровое определение исследуемого произведения, данное самим Чудаковым, – роман-идиллия. М. Бахтин, обращаясь к вопросу романного хронотопа, выделяет четыре чистых типа идиллии: любовную (пастораль), земледельчески-тру-довую, ремесленно-трудовую и семейную [2].
Когда отец показан как член семейства Саввиных – Стремоуховых, в его образе можно найти черты семейной, земледельчески-трудовой и ремесленно-трудовой идиллий. Например, внезапно открыв, что сын, дошкольник, уже умеет читать и считать, отец спешит поделиться этим открытием с женой: «Тасенька, – позвал отец, – иди сюда, посмотришь на результаты по системе Ушинского» (68)2. Далее супруги решают судьбу сына, обсуждая, в какой класс его отдать. В отношениях родителей главного героя видны черты семейной идиллии (гармония и взаимопонимание). Место отца является важным в производящем почти все натуральном хозяйстве Саввиных – Стремоуховых, он «занимался самыми ответственными и тяжелыми делами – заготовкой дров и сена» (124). Через приобщение к семье и семейным ценностям человек обретает внутренний мир и гармонические отношения с близкими людьми.
Кроме обращения к идиллическому хронотопу, Чудаков использует включение в текст романа других текстовых жанров, в том числе фольклорных. Э. Ф. Шафранская, обращаясь к фольклорному контексту романа Чудакова, отмечает:
«Легенды, предания, байки, песни, жестокие романсы, паремии, слухи, детские игры – все включено в повседневную жизнь, попутно представлен генезис некоторых сюжетов, их варианты» [13: 143].
Отец часто является главным действующим лицом семейных преданий: он спасся в степи от волков, вступил в единоборство с вором, позарившимся на скошенное семьей сено, отогрел в русской печи провалившегося под лед Антона. Имея все характерные для сюжета фабульные узлы: завязку, кульминацию и развязку, – эти воспоминания запечатлеваются в памяти Антона очень ярко. Таким образом, мужское начало (отец повел себя смело в ситуации встречи с волчьей стаей, отстоял имущество семьи, защитил сына) выражено в некоторых эпизодах романа в художественном плане очень активно, и отец здесь не может не быть примером для Антона.
Еще один фольклорный жанр, обнаруживаемый в тексте романа, – поговорка. Любимая поговорка отца – «Не красно солнышко – всех не обогрею». При этом повествователь сообщает, например, как отец безвозмездно оказывал юридическую помощь всем, кто обращался к нему, составляя заявления и письма. Прием антитезы в данном случае показывает доброту героя и стремление помочь другим, высокое значение для него таких понятий, как долг и совесть.
В образе Петра Стремоухова очевидны некоторые черты романтического героя. Всеми мыслями и душой он стремится к «магии силы». Автор показывает это при помощи цитатного дискурса, «когда повествователь делает вид, что буквальным образом передает слово своему персонажу» [7: 191]. Петр Иванович вдохновенно рассказывает сыну про Черчилля:
«Уинстону Черчиллю шел шестьдесят шестой год. Другие в этом возрасте в своих поместьях пишут мемуары. Но страна находилась в опасности. Англия вспомнила о нем и призвала его, вручив ему власть 10 мая 1940 года – за пять лет до победы. И первое, о чем он сказал, – о победе. Но ты послушай, что он сказал!» (473).
Благодаря тому что герой характеризуется в основном при помощи собственных реплик, автору удается с особенной силой показать суть персонажа: страстную увлеченность, восторженность, стремление к возвышенному идеалу.
Цитатный дискурс у Чудакова часто перерастает в провокативную повествовательную стратегию. В диалогах отца и деда нередко представлены диаметрально противоположные мнения, их столкновение заставляет и читателя подключаться к этому спору. Например, про кулаков, сосланных в Чебачинск (небольшой город в Казахстане, где прошло детство Антона) и очень быстро заживших лучше местных, дед говорит: «Что вы хотите… цвет крестьянства. Не могут не работать. Да как!» Ответ отца на эту фразу такой: «А чего же этот цвет в колхозе ни черта не дела- ет?» (39). Когда началась Великая Отечественная война, несмотря на медотвод, Петр Иванович пытался записаться на фронт добровольцем: «Умирать за эту власть? С какой стати?» – не одобрял поступок дед. На это отец возражал: «При чем тут власть! <…> За страну, за Россию!» (46). Дед стоит в оппозиции по отношению к советской власти, считая ее эпоху «царством фантомов». Отец с его восторженностью и способностью увлекаться ближе к советской идеологии, лозунговой по своей природе.
Некоторым фрагментам текста, посвященным отцу, Чудаков придает трагикомическую окрашенность, в них можно отметить реминисценции из романа М. Сервантеса «Дон Кихот». Ю. Айхенвальд пишет про двойственность и неоднозначность образа Дон Кихота, его связь с такими понятиями, как «христианство», «благородство», с одной стороны, и «чудачество», «юродство», с другой [1: 18–19]. В Петре Ивановиче есть и первое, и второе. При анализе фольклорного контекста произведения уже сказано про доброту героя, его стремление бескорыстно помогать окружающим. В то же время донкихотство героя выглядит и как смешное, не укладывающееся в реалии времени. Петр Иванович восхищается великим, хотя, как правило, очередной предмет его восхищения далек от советской действительности. Однако, в отличие от героя Сервантеса, герой Чудакова осознает жизненные реалии: свои идеалы он должен хранить для себя. Зачитанное сыну высказывание Черчилля (приведенный выше эпизод) случайно слышит известный доносчик Роман Казаков. Петр Иванович проявляет находчивость и объясняет, что слова принадлежат Молотову. Молотов замещает Черчилля, а примитивно мыслящий и невежественный Казаков ловко обманут. Так конфликт мечты и действительности получает юмористическое звучание. В то же время столкновение Дон Кихота, комического героя, с действительностью в контексте романа Сервантеса рождает отчасти трагический пафос. В описанном случае комическое граничит с трагическим: зачитывание на улице слов, произнесенных американским президентом, могло бы кончиться для героя арестом, ссылкой, негативно отразиться на его семье.
Восхищаясь великим, Петр Иванович не задумывается о сути этого великого, ее подменяет внешний блеск. Автор нанизывает в главе «Отец» предметы восхищения героя: политические деятели, радиостанции, армии стран мира. Разнородность и иногда сомнительность личностей и явлений, перед которыми преклоняется Стре- моухов (например, Талейран был известен своей полной беспринципностью и продажностью, Черчилль стал врагом России, зачинщиком холодной войны, вещания радиостанции «Голос Америки» никак не совмещались с преклонением отца Антона перед железной волей Сталина и т. д.), доказывают противоречивость и поверхностность воззрений романтически настроенного Петра Ивановича, и в скрыто ироническом освещении повествователя они в некоторой степени приобретают комическое звучание.
В. Е. Багно в работе «Дон Кихот в России и русское донкихотство» отмечает такую особенность русского донкихотства, как «превращение… в культурное явление, охватывающее и бытовое поведение» [3: 205], и одним из его проявлений исследователь называет «начетнический энтузиазм» [3: 206]. Это определение соответствует образу Стремоухова-старшего, книгочея, который, подобно Дон Кихоту, из книг черпал представления об идеальных фигурах для поклонения.
Реминисценция из романа Сервантеса, а именно на пародийно изображенные рыцарские поединки, содержится и в сцене отстаивания отцом скошенного семьей сена. В ней в юмористическом ключе представлено «фехтование» вилами – поединок между Петром Ивановичем и мужиком-вором, отступление последнего, его «полная капитуляция»:
«…через минуту отец уже бежал впереди Антона, держа наперевес вилы, как участник крестьянского восстания Болотникова, – и успел схватить под уздцы отъезжающую лошадь. Мужик спрыгнул с воза тоже с вилами и попытался пырнуть ими отца – тот отбил. Мужик сделал еще выпад – отец отбил с лязгом. Антон, раскрыв рот, смот рел на это фехтование. Отец кинул на него короткий взгляд (Антон долго его вспоминал) и закричал мощно: “Трофимыч! Григорьич!” Услыхав, что есть еще Трофимыч с Григорьичем, мужик бросил вилы, отскочил за куст и, быстро состроив удивленное лицо, забормотал:
– Да я как? Смотрю – сенцо ничье, можа, думаю, не вывезли, дак я что…» (102).
Кроме того, судьба Петра Ивановича – человека, не получившего возможности в полной мере реализовать себя, также исполнена драматизма. Упоминание горы Спящий Рыцарь заставляет читателя вспомнить про рыцаря печального образа. Принесенные отцом с этой горы ягоды при всей тяжести работы стоили столь же мало, что и трудные «подвиги» Дон Кихота, завершающиеся совсем не так, как он рассчитывал.
Несмотря на все чудачества, Петр Стремо-ухов – хранитель семьи и необходимого для ее су- ществования хозяйства. Донкихотство героя – это спор с тяготами действительности через неустанные труды. И здесь очевидна еще одна особенность русского донкихотства: по наблюдениям О. Есиповой, идея «безумия» героя постепенно вытесняется в русской традиции идеей жизнестроительного бунта [6: 27]. И прекрасное, и смешное в персонаже противопоставлено реалиям XX века, нарушению нормального функционирования всех социальных институтов того времени. О. А. Казьмина так характеризует донкихотствующего героя пьесы М. А. Булгакова «Бег», «рыцаря» Серафимы приват-доцента Голубкова: в нем
«рыцарский идеал… оказывает сопротивление раздвоившемуся в смутном времени и сменившему ориентиры миру, приводящему к предательству, душевному и нравственному кризису» [9: 121].
Анализируя принципы ретроспекции в литературе, М. Басселер и Д. Бирке останавливаются в том числе на вопросе ненадежного повествования. Ненадежность повествования в данном случае обусловливается особенностями человеческой памяти: ее избирательностью, субъективностью, склонностью к ошибкам, домысливанию – и помогает создать реалистичную картину видения мира, когда автор не претендует на всеохватность, а показывает то, что хранит память одного человека [15]. Таким образом, рассмотрение места отца в представленных воспоминаниях позволит сделать вывод о его значении в жизни сына.
Образ отца не выстраивается в произведении последовательно, посвященных ему частей текста сравнительно немного. На протяжении романа находим подтверждения любви сына к отцу, существования между ними духовной связи. Примером здесь могут служить проанализированные выше фрагменты текста, в которых отец показан как глава семьи, пример для сына и т. д. Однако есть и воспоминания, которые свидетельствуют о произошедшем со временем охлаждении в отношениях между отцом и сыном. Оценивая бытовые привычки Антона – столичного студента, отец иронично говорит «там у вас» (90), чем ранит героя. Взрослый Антон не принимает многие дорогие для Петра Стре-моухова советские идеологемы. Несомненно, что отец живет в воспоминаниях любящего сына, но его место в становлении его личности неоднозначно, трудно сделать окончательные выводы об отношениях отца и сына: память главного героя не сохранила подробностей.
Избрание автором такой повествовательной стратегии, как репрезентация процесса вспоминания, позволяет показать, что отец не занимает в жизни сына исключительно важное место. Дед Леонид Саввин, в отличие от отца, зримо и незримо присутствует в каждом воспоминании внука. Именно он заложил в Антоне основы знаний о мире. В первую очередь от деда Антон усваивает понятие о семейных ценностях, и пусть его дочка, а потом внучка не такие любознательные, как он в детстве, герой пытается говорить с ними и передавать свой жизненный опыт, как некогда делал дед по отношению к Антону. «Ты был прав во всем!» (494), – восклицает герой на могиле Саввина.
Голоса деда и отца, перекликаясь и противоборствуя, определяют формирование личности Антона, выбор им жизненного пути. Отец заражает сына страстной увлеченностью историей, и тот идет по его стопам, становится историком. Подобно ему, переживает период поклонения великим людям, в частности, исповедуя культ Наполеона. Стремоухов-старший привил сыну любовь к работе, всевозможные трудовые навыки, впрочем, как и дед. Однако высокие духовно-нравственные принципы Антон наследует от деда Леонида Саввина, именно он сформировал мировоззрение внука, хотя некоторые позиции деда Антон смог принять только через много лет после напряженного духовного поиска. Голос деда, отражающий многовековые традиции русской жизни, оказывается значимее для главного героя, чем голос внутренне прекрасного в своей устремленности к идеалу, но несколько оторванного от действительности отца.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, для раскрытия образа отца автор использует несколько повествовательных стратегий. Обращение к идиллическому хронотопу позволяет вписать героя в мир изображенной в романе семьи. Семейные предания, пословицы способствуют созданию образа отца как положительного героя. Наиболее ярко как личность он проявляется посредством использования автором цитатного дискурса и обращения к трагикомическому началу. Восторженные реплики отца говорят о том, что он способен быстро загораться идеей, не вдумываясь в ее суть. Это отчасти связывает героя с советской идеологией и делает в какой-то мере антагонистом по отношению к деду. Из столкновения устремленности Петра Ивановича к великому с действительностью рождается комический эффект, оборачивающийся в романе-идиллии и трагическим пафосом.