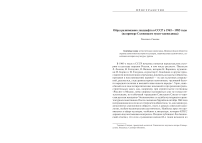Образ религиозного ландшафта в СССР в 1965-1985 годы (на примере Соловецкого музея-заповедника)
Автор: Санами Такахаси
Журнал: Вестник Евразии @eavest
Рубрика: Пространство
Статья в выпуске: 4, 2008 года.
Бесплатный доступ
Атеистическая пропаганда, всероссийское общество охраны памятников истории и культуры, национальная идентичность, памятники истории и культуры, туризм
Короткий адрес: https://sciup.org/14912056
IDR: 14912056
Текст статьи Образ религиозного ландшафта в СССР в 1965-1985 годы (на примере Соловецкого музея-заповедника)
В 1960-х годах в СССР начались попытки переосмыслить историю и культуру народов России, в том числе русского. Писатели Л. Леонов, В. Солоухин, О. Волков, историк Н. Воронин, художники П. Корин и И. Глазунов, скульптор С. Конёнков и другие представители интеллигенции стремились повлиять на власть и общество, призывая к восстановлению церквей — не как культовых сооружений, разумеется, а как архитектурных памятников, «реликвий былого народного величия и вековой славы нашего народа»1. Урон, нанесённый им в ходе антирелигиозных кампаний и при решении градостроительных задач, как, например, при строительстве гостиницы «Россия» в Москве, начал широко осознаваться: уже не только интеллигенция, но и обычный «гражданин Советского Союза» и «простая русская женщина»2 беспокоились за судьбы культурных и архитектурных памятников. После смещения Хрущёва в октябре 1964 года интернационализм если не отторгается обществом, то, как минимум, дополняется стремлением обрести, пусть в рамках советской идеологии, особую национальную идентичность. Наиболее ярко это проявлялось в сфере культуры, особенно в литературе, которую КПСС держала под постоянным контролем. Позднее публицист Лев Аннинский отмечал, что если «художники начала 60-х годов исходили из идеала, расположенного где-то в будущем: там располагался для них некий нравственный образец человека, очищенный ото лжи (от “пережитков прошлого”)», то «художники конца 60-х годов уже чаще поверяли себя прошлым, тоже очищенным от лжи (от “модернизма”)»3. В качестве примера можно привести острую полемику, вызванную знаменитым фильмом А. Тарковского «Андрей Рублёв». Американский исследователь Д. Данлоп высказал мысль, что этот фильм, «возможно, тоже был предназначен играть воспитательную роль»4, а на экран его долго не выпускали потому, что в ходе полемики выяснились сложность и противоречивость понимания прошлого и обществом, и идеологами5.
Памятники истории и культуры существуют не в вакууме — они так или иначе вписаны в окружающие их ландшафты. Ландшафт глубоко влияет на восприятие памятников, а те, со своей стороны, становятся ярчайшими «метками», символами ландшафта, делают его культурным, добавляя «от себя» тот или иной оттенок пространству (например, обволакивая его флёром предания, связываемого с данным местом). По мнению французского историка Алена Корбена, культурный ландшафт неотделим от людей, которые смотрят на него; поэтому его можно охарактеризовать как определённую интерпретацию и выражение пространства6, то есть как его образ. В гуманитарной географии «образ пространства» понимается как «система взаимосвязанных и взаимодействующих знаков, символов, архетипов и стереотипов, ярко и в то же время достаточно просто характеризующих какую-либо территорию»7.
Культурный ландшафт — очень важный фактор формирования идентичности: неслучайно большинство людей, впервые посещающих какое-то место, вписанное в историю их страны, воспринимают его как «своё», «узнав» образ увиденного ими культурного ландшафта. И когда власть в СССР почувствовала необходимость как-то поддержать представителей общества, выступавших с призывами к сохранению историко-культурного наследия, и в СССР стала формироваться политика сохранения памятников истории и культуры, предпринятые тогда практические меры заключались, помимо прочего, в открытии музеев-заповедников, в которые, наряду с собственно памятниками, включались и значительные локусы окружающего пространства.
Безусловно, усилия по созданию и благоустройству таких музеев были в первую очередь вызваны надеждой привлечь поток туристов, а с ним и доходы, необходимые для улучшения локальной экономической ситуации. Однако ставилась и более глубокая цель — «использование их в деле коммунистического воспитания советского наро- да»8. Если говорить более конкретно, то предполагалось благотворное воздействие памятников в плане усиления любви к Родине. В обоих случаях можно усмотреть политику. Вместе с тем историкоархитектурный и этнический музей-заповедник «Кижи» (учреждён в 1966 году), Соловецкий историко-архитектурный музей-заповедник (1967), Псковский историко-архитектурный музей-заповедник (1968) и др. служили ещё «“материалом” для формирования непосредственных образов у двух больших категорий населения: у туристов и жителей прилегающих населённых пунктов»9. Посетители и жители, в особенности музейные сотрудники, непосредственно и лично вовлекаясь в жизнь территории музея-заповедника, вносили тем самым свой значительный вклад в его образ. Иначе и не могло быть, потому что эти места способны сильно воздействовать на эмоции посетителей; люди чувствуют влечение к ним, им свойственна поэтика. Политику и поэтику в данном случае нельзя разделять, они оказались настолько тесно связаны друг с другом10, что мы можем охарактеризовать 1960-е годы как первые попытки систематического и массового использования памятных поэтических мест для политических целей. Но, хотя официальная идеология ощутимо и на разных уровнях влияла на образ ландшафта, личное восприятие и отвечающий этому восприятию индивидуальный образ места складывались всё же относительно независимо от политики. Яркие примеры этого мы видим в том отношении к религии, которое формировали музеи-заповедники, создававшиеся на основе сохранившихся памятников культового характера. В поздние советские годы там стал распространяться особый язык, позволявший восхищаться православным искусством и церковной историей. В этом языке церковь называлась не церковью, а «памятником архитектуры», «наследием предков», свидетельством «духовного богатства народа» или «гения русского народа». С одной стороны, это позволяло использовать образы таких мест для патриотического, эстетического и — обязательно — атеистического воспитания трудящихся, признававшегося властью очень важным делом. Но с другой стороны, с помощью этих эвфемизмов люди могли воссоздавать нецензурованный официальной идеологией образ «прошлой России» — России такой, какой её можно было представить по впечатлениям от музея-заповедника: с православными церквами, рублеными крестьянскими избами, каменными кремлями и т. д.
В статье предпринята попытка показать эту двойственность восприятия и использования образов охраняемого культурного ландшафта на примере Соловецкого историко-архитектурного музея-заповедника. В первой её части рассматриваются политический контекст со- здания и идейно-воспитательная работа музея. Во втором разделе предлагается реконструкция восприятия туристами Соловков и культовых сооружений по книге отзывов музея. В третьей части, опираясь на материалы интервью, мы постараемся показать, что Соловки, воспринимаемые как обладающие «тайной места» и «гением места», влияли на самих сотрудников музея, в особенности на их восприятие религии.
История создания Соловецкого музея-заповедника
Неповторимый образ Соловков сформировался со строительством в начале XV века Соловецкого монастыря, получившего широкую известность как духовный, культурный и экономический центр Русского Севера. При Советской власти культурный ландшафт островов очень сильно изменился: в 1920 году монастырь был упразднён, а три года спустя на его территории организовали Соловецкие лагеря особого назначения (СЛОН) — первые такого рода в СССР. Слово «Соловки» стало символом заключения и страданий. В конце ноября 1939 года, накануне войны между СССР и Финляндией, лагеря были закрыты. В разгар Великой Отечественной войны на их месте была создана Соловецкая школа юнг Военно-Морского Флота; в ней учились мальчики 15—16 лет, приезжавшие со всех концов страны. После войны на Соловках остался учебный отряд Северного Флота. Тогда же возник посёлок11, 1 марта 1948 года в здании бывшего храма были открыты библиотека и клуб на 500 мест со стационарной киноустановкой.
Ещё во второй половине 1950-х годов Соловки представляли собой закрытый район, так как на архипелаге располагались воинские части. Комплекс бывшего Соловецкого монастыря пребывал в запустении. В 1956 году его посетил «первый турист, первый писатель за много лет» — Юрий Казаков. Он так описывал состояние монастыря12:
«...Разрушен, изъязвлён, ободран и потому — страшен <...> ходил я вокруг монастыря, а он мне выставлял в смирении обшарпанные стены церквей, дыры какие-то, обвалившуюся штукатурку, как после вражеского обстрела, как раны».
просто не считались памятниками. Но именно тогда начались изменения в отношении к ним, в конечном счёте приведшие к организации музея-заповедника13. Инициативу по спасению Соловков взял на себя любитель-краевед П.В. Витков, с 1957 года занимавший должность директора местной школы. Начиная с 1959 года, он неоднократно писал письма в Академию наук СССР, ЦК КПСС, другие организации и учреждения с просьбами помочь в решении «Соловецкой проблемы»14. Целью его обращений было спасение Соловков и оживление жизни на островах. Чтобы достигнуть этой цели, надо было, по его мнению, изменить положение дел с воинскими частями, размещёнными на территории монастыря. В своём письме от 10 апреля 1959 года в Министерство обороны СССР он писал15:
«При всём уважении к нашей Советской Армии необходимо прямо сказать, что за 20 лет управления Соловками воинские части оказались не только плохими хозяевами, но допустили варварское отношение к историческим и биологическим ценностям и довели этот замечательный архипелаг до грани разрушения и опустошения».
Своё понимание будущего Соловков Витков изложил в целом ряде публикаций. В мае 1959 года в газете «Советская Россия» и в январе I960 года в газете «Правда Севера» были помещены его статьи, где предлагалось создать «историко-биологический заповедник, который, несомненно, имел бы большое научное и хозяйственное значение»16. В статьях он писал об исторической и культурной (но не религиозной) ценности бывшего монастыря, однако акцент делал на природном богатстве архипелага: называл его «северным биологическим оазисом», предлагал возобновить эффективное использование соловецкой природы, восстановить питомник для ценных пушных зверей, традиционные формы скотоводства и рыболовства, открыть научный центр для изучения и охраны биологических богатств островов. Им были разработаны несколько вариантов конкретных планов возрождения Соловков; при этом он не отвергал любые предложения по спасению архипелага.
После этих писем и статьей Архангельский облисполком рассмотрел вопрос, признал «правильной оценку состояния дел с использованием природных и культурно-бытовых ценностей Соловков» и назначил комиссию, которой было поручено «рассмотреть вопрос об использовании природных ресурсов, исторических памятников архитектуры, а также других зданий и сооружений, находящихся на Соловецких островах, и внести в облисполком конкретные предложе- ния по этому вопросу»17. В 1961 году территория монастыря была передана областному Управлению культуры. Однако это означало признание Соловков достопримечательностью только на местном уровне18, да и на нём охранительная деятельность была сконцентрирована не столько на культурно-исторических, сколько на природно-биологических объектах.
Более широкий общественный интерес «Соловецкая проблема» стала вызывать со второй половины 1960-х годов. Одной из первых статьей о ней во всесоюзных СМИ стала статья «Оазис у Полярного круга», опубликованная в «Известиях» 23 июня 1965 года19. В ней ещё тоже практически не затрагивается тема исторической ценности островов, преимущественное внимание обращается на вопросы их хозяйственного использования. Но в том же году началась реализация проекта, который в разной форме и с разными обоснованиями неоднократно предлагали ЦК КПСС министр культуры СССР Е. Фурцева20, члены Советского комитета защиты мира21, председатели творческих союзов22, — формирование государственной системы по охране памятников. 23 июля Совет Министров РСФСР принял постановление № 882 — об организации Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).
Заседание учредительного совета ВООПИиК проходило 8—9 июня 1966 года. На нём было заявлено, что своей целью новое общество считает «активное содействие осуществлению мероприятий Партии и Правительства по охране памятников истории и культуры и использованию их в деле коммунистического воспитания советского народа»23. Вместе с тем, если судить по исследованиям Данлопа24 и Н. Митрохина25, имели место попытки, правда неудачные, соединить деятельность по охране памятников с их политическим использованием в интересах русского национализма. Впрочем, какие бы цели ни заявлялись официально руководством и ни преследовались на деле отдельными членами общества, не вызывает сомнений его роль в конструировании специфических образов пространства — пробуждавших и усиливавших любовь к Родине. Однако, как часто говорили в советское время, участие в ВООПИиК было «добровольно-обязательным» для некоторых слоёв населения, особенно для преподавателей и студентов исторических и филологических факультетов, сотрудников музеев и многих других людей. Таким образом, к 1977 году в ВООПИиК числились уже 9,3 % населения РСФСР26. Во всех областях, краях и автономных республиках РСФСР были созданы местные отделения. В том числе и в Архангельской области, где заместителем председателя Президиума совета областного отделения был избран Витков.
24 мая 1966 года Советом Министров РСФСР принимается Постановление «О состоянии и мерах улучшения охраны памятников истории и культуры в РСФСР»; в нём ансамбль Соловецкого монастыря включён в «перечень памятников истории и культуры, требующих изменения характера их использования»27. 7—12 июля работает первая научная конференция «Памятники культуры Русского Севера», на ней «Соловецкой проблеме» посвящены выступления Д.С. Лихачёва («Задачи изучения Соловецкого историко-культурного комплекса») и А.В. Воробьёва («Восстановление Архитектурного ансамбля XVI—XIX вв. Соловецкого монастыря»)28. 27 октября Центральный совет ВООПИиК чётко формулирует свою позицию по поводу Соловков: «Учитывая уникальный характер историко-архитектурных памятников Соловецких островов и важность организации широкого их показа считать необходимым: создание на базе памятников Соловецких островов Государственного историко-архитектурного музея-заповедника»29. И 10 января 1967 года Совет Министров РСФСР издаёт распоряжение об организации Соловецкого историко-архитектурного музея-заповедника со статусом филиала Архангельского областного краеведческого музея.
В упомянутом выше постановлении Совмина от 24 мая 1966 года предписывалось «завершить подготовку памятников, находящихся на важнейших туристских маршрутах, для показа советским и иностранным туристам»30. Соответственно в СМИ стала активно обсуждаться идея использования Соловецких памятников для развития туризма на Русском Севере. В журналах и газетах публиковались репортажи и фотографии о Соловках, в которых, как правило, говорилось о красоте белых ночей и неповторимости древних памятников русского зодчества. Однако, по словам Ю. Казакова, «во всех корреспонденциях, за редким исключением, ничего не сказано о творящихся на Соловках безобразиях»31. В качестве немногих таких исключений можно назвать статьи Я. Голованова «Соловецкие фантазии» (в «Комсомолке»)32 и А. Левингера «Галопом по Соловкам» (в «Правде Севера»)33. Содержательный критический материал Голованова вызвал большой интерес среди читателей всей страны, некоторые из их писем-откликов были опубликованы в других газетах34. Левингер писал о трудностях с получением путёвок, отсутствии информации о достопримечательностях, о том, что туристические группы слишком велики, а экскурсионная работа налажена плохо...
Подводя итог истории создания Соловецкого музея-заповедника, отметим следующее. Во-первых, Соловки получили статус памятника государственного значения; за ними закрепились такие образ- ные наименования, как «Северный биологический оазис», «жемчужина Русского Севера», «Северная Венеция» и т. д.; были созданы турбаза и музей-заповедник. Во-вторых, были сформулированы цели охраны Соловков — абсолютно те же, что и при охране других памятников истории и культуры: коммунистическое воспитание советского народа, воспитание любви к Родине, её истории, уважения к труду и таланту народа35. В-третьих, в СМИ Соловки отныне предстают в двойном образе: шедевром архитектуры мирового значения и одновременно местом туризма и отдыха.
Образ Соловков по книгам отзывов
Несмотря на отмеченные в критических статьях недостатки, Соловецкий музей-заповедник довольно быстро приобрёл популярность как место посещений. Общее количество приезжавших сюда туристов увеличивалось с каждым годом: в 1967 году их было не много: всего 8 176 человек, в 1970 — вдвое больше: 17 474, а в 1980 — больше в 10 раз: 87 554 человека36.
Свои впечатления от экскурсий и музея-заповедника в целом его посетители могли при желании зафиксировать в рукописных книгах отзывов37. После детального ознакомления с этими книгами отзывы по содержанию можно разделить на группы записей с преобладанием: 1) восхищения увиденным; 2) желания реставрировать памятники; 3) признательности экскурсоводам; 4) недовольства или прямой критики. При этом типичные отзывы были крайне формальными, представляя собой простое сочетание пп. 1—3 или 2—3. Например:
«Большое спасибо за экскурсию, проведенную т. Чебанюк Ю.А. Наш совет: обратить большее внимание на реставрацию Соловецкого кремля. Учителя. (02.07.1969)».
Рассмотрим подробнее каждую выделенную группу. В отзывах, образующих первую группу, ярко отражаются пробудившийся интерес и чувство удивления. Попадаются и такие, в которых высказывается прямое восхищение историей места и людьми, создавшими эту грандиозную архитектуру: «Велик вклад предков наших в развитие культуры на Руси, если бы и мы вложили столько же, потомки вспоминали бы нас с благодарностью. (26.06.1969)»; «Восхищены мужеством и упорством русских людей, освоивших эту заброшенную северную землю. Инженеры из Ярославля. (20.07.1969)»; «Очень впечатляют строения русского человека, сделанные без современной техники. Необычайно интересна ис- тория монастыря. Г. Арх., сотрудники детской областной больницы. (02.06.1974)».
Многие приезжавшие на острова туристы почти ничего не знали об аварийном состоянии тамошних памятников. Поэтому в книгах отзывов и встречаются так часто, особенно в первые годы создания музея-заповедника, записи второй группы, передающие удивление, боль и горечь, вызванные увиденным:
«Осталось смутное впечатление, что всё это может бесследно исчезнуть для будущего, если не взяться за восстановление и реставрацию. Ведущиеся работы явно не соответствуют масштабам разрушений и запущенности. ЭССР. (29. 06.1969)»; «Ужасное впечатление!!! Слов нет, чтобы выразить сожаление по поводу Кремля. Очень жаль его видеть. Москва. (04.07.1969)»; «Выражаем глубокое огорчение неудовлетворительным состоянием замечательного памятника русской истории — ансамбля Соловецкого монастыря. Считаем необходимостью быстрое восстановление монастыря. Затраченные средства окупятся поднятием гордости за русский народ в душах тех, кто посетит монастырь. Инженеры из Ярославля. (20.07.1969)».
Заметим, что среди многих отзывов с просьбой или констатацией необходимости восстановить памятники (типичный пример — отзыв ярославских инженеров), два первых приведённых выше отзыва являются уникальными: первый — по жёсткости оценки реставрационных работ, второй — по силе выраженного им чувства и оба — по глубине понимания того, насколько велики разрушения, которым подвергся монастырь. Но даже в них, тем более — в остальных записях второй группы, ничего не говорится о причинах этих разрушений. Что ответственен за них советский режим, авторами записей не осознаётся (или не произносится вслух).
Анализируя третью группу записей — слова благодарности экскурсоводам, мы можем сделать вывод, что они действительно оказывали сильное влияние на слушателей:
«Благодаря Юрию Александровичу (Чебанюку. — Т.С.) мы подробно узнали и всю историю Соловецкого монастыря, и связь этой истории с историей нашей страны, и всё то большое и малое, что могло быть пропущено с менее квалифицированным руководством. (07.1969)»; «Мы, группа туристов из Петрозаводска, признательны и глубоко благодарны экскурсоводу А. Осиповичу за превосходный рассказ и блестящее владение материалом. Приятно, что есть такие знающие, заинтересованные и любящие своё дело экскурсоводы. (07.1969)»; «Мы были совершенно очарованы экскурсоводом Н. Лебедевой <... > Она любит нашу Родину. Любит историю этого края и сумела за это короткое время всё это передать нам. Искренность, доброжелательность, какая-то своя точка зрения на давно прошедшие события — ну и молодей, эта маленькая девчушка... Москва. (14.07.1974)»; Камни, крепостные стены, башни — всё впечатляет. Но больше всего впечатляют люди Соловков, в былые времена и нынешние. Без этой огромной любви к этому памятнику культуры российской, без настойчивого желания передать поэзию Соловецкой природы экскурсии бы выглядели скучно и обыденно <„> Спасибо вам, дорогие товарищи, вы делаете большое дело. Киев. (22.06.1980)».
Вместе с тем в книгах отзывов можно найти и свидетельства неудовлетворённости работой сотрудников музея-заповедника. Думается, что главными виновниками этого были сами Соловки: их необычность как места, соединившего удивительный ландшафт с удивительными памятниками человеческой деятельности, пробуждала в посетителях желание услышать не просто информацию, пусть научно выверенную, но отчасти и банальную, а что-то необыкновенное. При этом критики, увы, тоже не блистали оригинальностью при попытках передать свои ожидания и последующее разочарование. Вот типичный пример из четвёртой группы записей, интересный ещё и тем, что его авторы фактически восстают против идейной направленности услышанного от экскурсовода, хотят узнать скорее об обыденном, чем о героическом, вызывающем чувство патриотической гордости:
«Музей мог бы быть более содержательным <... >Хотелось бы более подробнее знать о жизни и быте обитателей этого места в XVIIв. Неплохо бы показать историю монастыря с XVII по XIXвв., объяснить, чем они были вызваны. Вообще, побольше узнать историю монастыря, причём не только её узловые события, но и быт, повседневную жизнь. Туристы — небольшие знатоки архитектуры, а жизнь и трудные судьбы людей всем интересны и поучительны... (07.10.1980)».
Анализируя записи в целом, можно отметить следующее. Поскольку идеологическая работа музея естественным образом замыкалась на монастыре, нет ничего удивительного в том, что о красотах природы в книгах отзывов говорится мало. Кроме того, никто из туристов ничего не написал об истории Соловков советского времени, что можно считать подспудным признанием её явной несопоставимости с историей монастыря. Далее: чрезвычайно интересно, что в проанализированных книгах отзывов не оказалось ни одной отрицательной оценки монастыря в качестве тюрьмы или крупнейшей вотчины. И это несмотря на то, что сотрудники музея готовили и для туристов, и для местных жителей, в первую очередь школьников, специальные тематические экскурсии, беседы и лекции не только на такие темы, как «Монастырь и оборона Поморья в XVI—XIX веках» или «Раститель- ность острова», но и на тему «Узники Соловецкого монастыря»38. А. Сошина, сотрудник музея с 1969 года, отмечает, что экскурсоводы должны были преуменьшать значение монастыря, подчёркивать, что в монастыре «эксплуатировали крестьян Поморья» и что «монахи были все плохие»39. Однако непосредственная встреча с Соловецкими островами настолько потрясала большинство экскурсантов удивительной красотой и мощью архитектуры, убедительными свидетельствами процветания прежнего крепкого монастырского хозяйства, что именно об этом, а не о монастыре-тюрьме или монастыре-вотчине писали они в книгах отзывов.
С одной стороны, такой акцент был, как это ни парадоксально на первый взгляд, естественным следствием осуществления на практике официальных идеологических установок, в соответствии с которыми памятники культового происхождения характеризовались как «творчество простых людей», «гений народа», «слава истории Родины». Приведём в этой связи цитату из доклада на учредительном съезде ВООПИиК его председателя В. Кочемасова40:
«В трудную эпоху рождалось древнерусское искусство, когда длительное время господствующей идеологией была религия, когда художественное творчество регламентировалось канонами церкви. Но и в этих условиях народом создавались произведения архитектуры, живописи, прикладного искусства, полные художественного совершенства, глубокого народного человеческого смысла. Нужно только развенчать ореол религиозности, связанный с этими произведениями, и они предстанут как великие художественные ценности...»
А директор Валаамского музея-заповедника, рассказывая о музейной атеистической работе в середине 1980-х годов, объяснял, что «всё это не столько монастырская, сколько крестьянская культура, которую эксплуатировал монастырь»41. Но с другой стороны, в книгах отзывов встречаются записи, свидетельствующие о неудачах в деле «развенчания»:
«Всё то, что построено и возделано монахами в несколько десятилетий, к сожалению, почти что разрушено. Да... Ленинград. (И. 08.1974)»; «Восхищён трудом монахов, которые сумели в глухом краю построить такой величественный монастырь. Дулабаев. Ташкент. (13.07.1974)»; «Такую мощь не видел ещё нигде, как этот монастырь — крепость силой верующих Севера России. (В начале августа 1980 г.)».
В этих отзывах монастырь построен не «народом», а монахами или верующими. Монахи и верующие, конечно, тоже «народ», но авторы отзывов не пользуются эвфемизмами, официальной и распространённой лексикой — при том, что слова «монахи» и «верующие» в те годы должны были ассоциироваться с «крупнейшим феодалом церковью», «мракобесием», «пережитками прошлого», а сама религия — с «непримиримым врагом прогресса и науки»42. На Соловках тоже пропагандировали атеизм. Но люди оценивали монастырь и ландшафт не с позиций атеистической пропаганды, а так, как описала в интервью Сошина43:
«Приезжающие не могли не видеть такие благоустроенные острова, хотя это за 70 лет советской власти было уже разрушено, но всё равно было видно прекрасные сооружения, разработанные луга, канальную систему и т. д., то уже этого было достаточно, чтобы понять, несмотря ни на какую атеистическую пропаганду, что это явление положительное в истории русского государства».
Другими словами, у туристов складывался свой образ Соловков, образ монастыря — заброшенного, красивого плода народного труда, в том числе верующих и монахов. Одновременно Соловки для многих туристов являлись особым местом, где человек ощущает себя находящимся далеко от повседневной, привычной и банальной, жизни. Здесь каждый мог почувствовать прошлый — и совершенно иной мир. Это был не тот, точнее, не совсем тот образ Соловков, который власть намеревалась сформировать посредством пропагандистских рассказов о религии-опиуме и монастыре-тюрьме. И складывался он из трёх компонентов: из патриотического чувства, в равной мере спонтанного и «подогретого» идеологически выдержанным экскурсионным сопровождением; из личных и у каждого личностно окрашенных эстетических впечатлений; под влиянием того образа места, который создался у сотрудников и экскурсоводов музея и которым они, вольно или невольно, случайно или намеренно, делились с его посетителями.
Образ Соловков у сотрудников и экскурсоводов музея-заповедника
Поскольку Соловки долго были закрытым районом, их нынешнее население сформировалось из приезжих преимущественно трёх категорий. Одни были отставными военными, служившими на островах, другие — работниками Водорослевого комбината или лесхоза, третьи — сотрудниками музея-заповедника. Отношение к Соловкам у них, особенно у третьей категории, было своеобразное. Так, В. Мато-нин, работавший в музее в 1982—1988 годах, следующим образом объясняет свой переезд на Соловки: «Это пространство показалось мне таким привлекательным, настолько отвечающим моему внутрен- нему состоянию, душевному, что мне захотелось здесь жить. Я сразу сказал себе: “Здесь бы я хотел жить ”»44.
Журналистка Л. Мельницкая, впервые посетившая архипелаг летом 1963 года, воспоминает о первых экскурсиях на Соловках. Во время пути по теплоходному радио туристы могли услышать обстоятельный рассказ Павла Васильевича Виткова об истории Соловецкого монастыря и уникальной природе островов. Экскурсию на месте вела библиотекарь М. Поженская, тоже «влюблённая в Соловки». Журналистка узнала, что по совету своего директора Виткова школьники начали собирать в монастырских постройках и на территории посёлка первые экспонаты для школьного музея, которые легли в основу нынешних фондов Объединённой дирекции Соловецкого государственного музея-заповедника. Да и первых экскурсоводов Витков подготовил из своих учеников45.
Самые первые годы сотрудников было всего пятеро46. К 1969 году их число выросло до восьми, а к 1974 году — до 12 человек47. Только в середине 1970-х годов, после реорганизации музейной структуры, количество сотрудников стало увеличиваться: в 1976 году их насчитывалось уже 36, а в 1987 — 77 человек. АА. Сошина, одна из первых сотрудниц, попавшая на Соловки в 19 лет студенткой второго курса, называет те годы «прекрасными», хотя работать приходилось в очень сложных условиях, разговоры велись перед печкой внутри бывшей кельи, где они жили, там сильно дуло и не было электричества48. По воспоминаниям Ю. Чебанюка, работавшего в 1969 году внештатным экскурсоводом, «состав сотрудников Соловецкого музея был в то время довольно оригинален. Главным хранителем музейных фондов и одним из научным сотрудников стали Евгений Абрамов и Александр Осипович, незадолго до этого исключённые с исторического факультета Ленинградского университета “за участие в антисоветской организации”. Словом, только меня там не хватало, в той тёплой компании, меня, ещё несколько лет назад взятого на заметку бдительными областными органами КГБ!»49 Экскурсии в 1969 году, помимо Чебанюка, проводились научными сотрудниками: упомянутыми им Осиповичем и Абрамовым, а также А. Новожиловой50. Деятельность и экскурсоводов, и сотрудников музея строго регламентировалась, обязательно надо было представлять годовые отчёты, с помощью которых административные учреждения контролировали работу музея. Как вспоминает Сошина, вся их работа считалась пропагандистской, а «музейные сотрудники — бойцами культурного фронта, даже не культурного, а идеологического». Атеистическая пропаганда была частью их обязанностей, значение монастыря всегда старались приуменьшить». Чеба- нюк тоже специально отмечал, что «директор областного музея, приехав как-то “с инспекцией”, счёл, что мы перехваливаем монахов», иронично спрашивал: “Неужели они такие работящие были?” и рекомендовал больше рассказывать о монастырской тюрьме. Однако, пишет Чебанюк, сотрудники-то знали, что «в той тюрьме за триста лет дореволюционного существования сидел всего триста один узник, а в советское время на Соловках порой собиралось до пятидесяти тысяч заключённых»51.
Вообще сотрудники музея читали и слышали о Соловецких лагерях, к тому же в то время оставалось ещё много следов лагерей. По словам Сошиной, у них «очень много было книг, которые у нас никогда не издавались, которые привезли с Запада». После того, как Соловки открылись для свободного посещения «очень много поехало людей, в том числе и тех, кто сидели в лагере, и родственники тех, кто здесь сидел и кто погиб». Сошина вспоминает: «Мы с этими людьми общались. Мы жили в Новобратском корпусе, у нас было много места и мы могли каждого приютить, здесь же не было ни гостиницы, ничего, то, конечно, рассказы об этом периоде мы слушали и что-то узнавали. Но, конечно, в экскурсиях это было строжайше запрещено говорить вообще о лагере <„> конечно, если это были хорошие группы, то что-то мы немножко рассказывали». Другими словами, лагерная страница в истории Соловков была достаточно известна, должна была отразиться на их образе, и нет ничего удивительного в том, что одна из первых выставок о ГУЛаге была открыта именно на Соловках (в 1989 году). И всё же, как представляется, этот компонент образа никогда не был доминирующим.
Равным образом, особая атмосфера отношений научных сотрудников позволяла осмысливать это место и вне идеологического контекста. К такому выводу позволяют прийти наши интервью с сотрудниками, работавшими в советский период. Та же Сошина считает: «К чести наших сотрудников, что абсолютное их большинство было настроено совсем не атеистически». Её мнение совпадает с оценкой М. Лопаткина, нынешнего директора, в первый раз работавшего на Соловках с 1977 по 1983 год: «Ни один из музейщиков Соловецкого музея никогда не был ярым атеистом, невозможно было. Он мог не быть верующим, но нигде и никогда не говорил публично: “Бога нет "и т. д.»52. В целом же для экскурсоводов и сотрудников музея образ этого уникального места, которое они каждый день видят, историю которого и по долгу службы, и в качестве исследователей хорошо знают, чья повседневная жизнь проходит в этом климате и в ландшафтном окружении, настолько слитом с памятниками культуры, что невозможно определить, что же больше всего на него влияет, обретает особое духовное измерение. Это хорошо передал Лопаткин:
«Каждый, кто здесь побывал, он всегда останется в неоплаченном долгу перед Соловками. Это место питает человека очень сильно и надолго. Неслучайно всё это по кругу ходит, люди приезжают, уезжают <„. > Это очень сильное место — как бы мы не говорили: “святое место”, “энергетика места”, “духовное”, “природное” и т. д. место — это не объяснить; когда начинаешь объяснять, становится скучно. Должны быть тайна места, гений места, Соловки — в первую очередь и всегда — ими были».
* * *
В течение всего советского времени религиозный ландшафт очень сильно менялся двояким образом — и физически, приобретая или (чаще) утрачивая те или иные черты, и в воображении / восприятии людей. В случае Соловков это двойное изменение ландшафта началось по инициативе всего одного человека — местного преподавателя. В послевоенные годы вообще не было легальной институциональной основы сохранения памятников истории и культуры, поэтому спасать религиозный ландшафт было очень трудно. Первоначально только немногие подымали голос в защиту погибающей старинной архитектуры и окружающей её природы. Они подчёркивали политическую значимость дела охраны и использования памятников и сформировали особый язык, позволявший позитивно оценивать и отдельные культовые сооружения, и целые религиозные ландшафты, оставаясь при этом в рамках советской идеологии. В середине 1960-х годов по всей стране стали создаваться музеи-заповедники, отделения ВООПИиКи система охраны памятников в целом. Благодаря этому многие люди получили возможность наслаждаться памятниками истории и культуры, прежде пребывавшими в забвении и разрушавшимися. По мере того, как всё больше и больше людей вступали в ВООПИиК, призывы к сохранению памятников стали привычными, а отношение к ним — банальным, что прослеживается по «книгам отзывов». Всё же для многих туристов, посещавших «необыкновенные места», эти слова не утратили своего поэтического звучания. Музейным работникам удавалось под держивать у посещавших Соловки туристов самосознание пре -емников «нашего русского» наследия; однако в том виде, в каком оно было распространено в среде большинства, оно отнюдь не противоречило идентичности «советский народ». В то же время, в отличие от туристов, сотрудники музея-заповедника и жители островов каждоднев- но видели кричащий контраст между величием наследия, оставленного верующими предками, и свидетельствами надругательств над прошлым, конечным виновником которых был атеистический коммунистический режим: следы ГУЛага, разрушенные памятники, последствия ребяческого хулиганства юнг и бесхозяйственности военных. Некоторых это толкало на нестандартный путь поиска идентичности, к Богу и вере, другие, оставаясь атеистами, уважительно относились в религии и религиозным памятникам. Следовательно, хотя в 1965—1985 годы никто не говорил об этом вслух, но в специфическом местном ландшафте религия продолжала оказывать определённое, хотя и скрытое, влияние.
Список литературы Образ религиозного ландшафта в СССР в 1965-1985 годы (на примере Соловецкого музея-заповедника)
- Коненков С. Т., Корин П.Д., Леонов Л.М. Берегите святыню нашу!//Молодая гвардия, 1965. №5. С. 217.
- Солоухин В. По поводу «Писем из Русского музея»//Молодая гвардия, 1967. № 4. С. 281.
- Аннинский Л. Шестидесятники и мы. М., ВТПО «Киноцентр», 1991. С. 200.
- Dunlop J.B. The faces of contemporary Russian nationalism. Princeton, Princeton Univ. Press, 1983. P. 35.
- Такахаси С. Особенности восприятия и социальный контекст фильма А. Тарковского «Андрей Рублёв» («Страсти по Андрею»)//Вестник Костромского государственного университета имени Н.А. Некрасова, 2008. Основной выпуск. Т. 14. № 4.
- Замятин Д.Н. Географический образ//Гуманитарная география. Вып. 4. М., 2007. С. 273.
- Устав Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, п. 1-1; Собрание постановлений Совета Министров РСФСР, 1965. № 17, ст. 101.
- Замятина Н.Ю. Музеи-заповедники как фактор формирования местной (ре гиональной) идентичности//Актуальные проблемы развития музеев-заповедников. Петрозаводск, 2006. С. 87.
- Тактами А. Той фукей: цуризм но сисен (Далекий пейзаж: взгляд туризма). Киото, 2005. С. 11-14.
- Витков П.В. Почему забыты Соловецкие острова?//Правда Севера, 1960, 7 января. С. 4.
- Безуглый В., Шмытановский В. Оазис у Полярного круга//Известия, 1965, 23 июня. С. 4.
- Митрохин Н. Русская партия: движение русских националистов в СССР. 1953-1985 годы. М., 2003. С. 315-320.
- Тезисы докладов и сообщений к научной конференции в г. Архангельск «Памятники культуры Русского Севера». М., 1966. С. 25-29.
- Постановление Совета Министров РСФСР № 473 от 24 мая 1966 г. «О состоянии и мерах улучшения охраны памятников истории и культуры в РСФСР»//Охрана памятников истории и культуры: сборник документов. М., 1968. С. 158-163.
- Голованов Я. Соловецкие фантазии//Комсомольская правда, 1969, 8 апреля. С. 4.
- Левингер А. Галопом по Соловкам//Правда Севера, 1969, 2 августа. С. 4.
- От фантазий -к делам//Правда Севера, 1969, 25 июня. С. 3.
- Словарь иностранных слов/Под ред. С.М. Локшиной, Б.Ф. Крутицкого. М., 1954. С. 604.
- Интервью автора с А.А. Сошиной от 12 августа 2008 года.
- Интервью автора с В.Н. Матониным от 12 августа 2006 года.
- Мельницкая Л. Давняя песня в нашей судьбе//Соловецкое море, 2002. № 1.
- Годовые отчёты Соловецкого музея//СГМЗНА. 5-02(1)-68-74. Л. 7.
- Чебанюк Ю. По ком звонит Соловецкий колокол: Экскурсоводам запреща лось рассказывать о существовании лагеря/Публикация Л. Мельницкой//Век, 2000. № 17. С. 15.