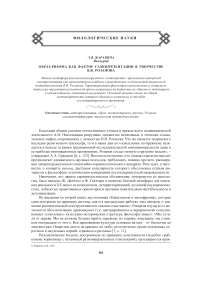Образ-ризома как фактор самопрезентации в творчестве В.В. Розанова
Автор: Жаравина Л.В.
Журнал: Известия Волгоградского государственного педагогического университета @izvestia-vspu
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 3 (196), 2025 года.
Бесплатный доступ
Модель-метафора ризома анализируется в соотношении с феноменом авторской самопрезентации как интегратором наиболее существенных особенностей творческой индивидуальности В.В. Розанова. Характеристика философско-религиозных и социально- этических параметров розановской прозы направлена на выявление их образного потенциала в художественно-эстетическом аспекте. Основной акцент сделан на общей нестандартности мотивно-образного комплекса и способах его нетрадиционного прочтения.
Автопрезентация, образ, постмодернизм, ризома, Розанов, самоидентификация, творческая индивидуальность
Короткий адрес: https://sciup.org/148330644
IDR: 148330644
Текст научной статьи Образ-ризома как фактор самопрезентации в творчестве В.В. Розанова
Благодаря общим усилиям отечественных ученых и прежде всего подвижнической деятельности А.Н. Николюкина разрушено множество негативных и этически сомнительных мифов, сопряженных с личностью В.В. Розанова. Что же касается творческого наследия религиозного философа, то и в наши дни его осмысление по-прежнему нуждается в выходе за рамки традиционной исследовательской интенциональности даже в ее наиболее инновационных проявлениях. Розанов создал «новую стратегию мысли», – утверждает А.А. Грякалов [6, c. 123]. Вполне естественно, что «новая стратегия мысли» предполагает адекватность научных подходов, требующих, помимо прочего, расширения литературоведческого понятийно-терминологического аппарата. Речь идет, в частности, о концепте ризома , растущая популярность которого обусловлена острым интересом к философско-эстетическим концепциям постмодернистской направленности.
Напомним, что данное терминологическое обозначение, почерпнутое из микологии, было введено Ж. Делёзом и Ф. Гваттари в качестве базовой метафоры для описания реальности XX века с ее номадизмом, детерриторизацией, духовной неукорененно-стью, зыбкостью нравственных ориентиров и прочими показателями нестабильности и дегуманизации.
Во введении ко второй книге двухтомника «Капитализм и шизофрения», которая сама построена по принципу ризомы, как и в предыдущих работах этих авторов, о значении ризоматической конструктивности сказано однозначно. Отвергая идущую от античности абсолютизацию древовидных (т.е. центрированных и иерархически соподчиненных «стволовых» культурно-исторических структур), философы пишут: «Мы устали от дерева. Мы не должны больше верить деревьям, их корням, корешкам, мы слишком пострадали от этого. Вся древовидная культура основана на них – от биологии до лингвистики. Напротив, ничто не красиво, не любо, не политично, кроме подземных отростков и надземных корней, сорняков и ризомы » [7, с. 12].
Ризоматические модели, построенные по принципу асистемности (подобно грибковому корневищу с путаницей разнонаправленных ответвлений), проецируются прак-
тически на все сферы природного и социального бытия, включая языковую деятельность человека, речевую практику и, разумеется, его творческую активность. В итоге формируется новая антропологическая парадигма, или «антропология Границы» (в отличие от классической «антропологии Центра» [12, с. 39]), находящая отражение в современном художественном дискурсе.
И действительно, творчество авторов, поддерживающих установки философско-эстетического постмодернизма, дает благодатную почву для осмысления таких «приемов» художественной верификации, как коллажность, мозаичность, интертекстуальность, жанрово-стилевая хаотичность и т.п. Все это напрямую ассоциируется с представлениями о ризоме во множестве видоизменений. В контексте «игровой» поэтики рассматривается также модель лабиринта- ризомы с неразличимостью начальной и конечной точек сюжетно-фабульного развития.
В систему подобных дефиниций, соотносящихся, прежде всего, со структурноформальными особенностями произведения, розановская проза, как доказано в ряде исследований последних лет, вписывается вполне органично.
Однако смысловой потенциал литературного текста в силу присущей ему поли-морфности не сводится к предметно-чувственной конкретике отдельных средств художественной выразительности и предполагает акцент на главном – образе- субъекте , воспроизведенном в хорошо известных персонифицированных модификациях: литературный герой , персонаж , художественный тип , действующее лицо , актант и, конечно, образ автора . Если же исходить из того, что лабиринт- ризома – метафорическое обозначение не только пространственно-материальной конструкции, но (что гораздо важнее) и духовно-ментальной лабиринтности, то целесообразно признать и существование человека- ризомы .
В таком аспекте, исходя из особенностей авторской самопрезентации, мы рассматриваем феномен В.В. Розанова, раздвигающий представления о границах и возможностях литературной характерологии.
Считая мир «духовного творчества, вырастающий из человека», «последствием» его отношения к природе [11: 7, с. 175], Розанов активно обращался к зоо- и фитомаркерам как способу кодирования интенций широкого семантического поля. Ведущая роль в этом процессе отводилась древесному этико-эстетическому и культурологическому комплексу: «все “О понимании” пропитано у меня “cоотношением зерна и из него вырастающего дерева ”, а в сущности – просто – роста, живого роста <…> “я – есмь” “растущий”, и мне надо знать: “куда, во что (Дерево) я расту, выращиваюсь”» [Там же: 17, с. 369]. Автор философского трактата вполне мог ссылаться на слова евангельского слепца: «вижу проходящих людей, как деревья» (Мк.: г. 8, ст. 24), поскольку понятийно-образное тождество « дерево – человек» [Там же: 10, с. 391] имело для него принципиальное значение.
Не случайно свой способ познания, «на который нет апелляции», Розанов назвал методом «кофейного деревца», согласно которому для выяснения истинной природы семени («блага она или зла») следует вырастить растение, и «все предикаты» его будут предикатами «неизвестного зернышка» [Там же: 26, с. 150, 153]. Иначе говоря, результат развития является итоговым продуктом самополагания, реализацией изначально заложенной потенции, ее апофеозом, акме. Такова суть феномена энтелехия , соответствующего другому евангельскому постулату: «по плодам их узнаете их» (Мф.: гл. 7, ст. 20).
«ИЗ ЗЕРНА – ДЕРЕВО – вот мой единый учитель, единая книга» [Там же: 2, с. 116], – заявлял Розанов, для которого степень древовидности (т.е. надежности, порядочности, духовной стойкости) была точкой отсчета на шкале аксиологических измерений. Так, высоко оценивая свое общение с литературным критиком Н.Н. Страховым, он сравнивал его со старым и седым дубом, «корни которого, ноги которого так хочется омыть» [Там же: 25, с. 7].
Согласно Розанову, древовидно по своей природе и искусство. По его словам, «в растении, “как растет оно”, есть еще художество. <…> Разве “ель на косогоре” не художественное произведение?» [Там же: 30, с. 125]. Древесная прочность и основательность усматриваются автором в личности русских писателей: «Толстого или Достоевского, даже Тургенева, наконец, ленивого Гончарова Бог или Natura-Genitrix вырубали из большого дерева большим топором. – Все крупно, сильно в творчестве, лице их» [Там же: 7, с. 553].
Все это не просто фигуры речи. Из сложного семени «нашей души» [Там же: 9, с. 41], по Розанову, вырастает единое «Древо жизни людской» [Там же: 21, с. 316], а метафорические сопоставления человек – зерно , человек – дерево моделируют ситуации, исполненные не только величия, но и трагизма. «“Кронка” нашей литературы была срезана, и “дерево пошло в суки”», – так философ характеризовал последствия «вечно печальной» лермонтовской дуэли [Там же: 7, с. 289].
Конечно же, розановское Древо Жизни (под этим названием в 1913 году готовилось новое издание книги «Религия и культура») входит в архетипическую цепочку «древесных» мифологем: от Древа Мира (Arbor Mundi) до многочисленных литературно-художественных флуктуаций и древовидных языковых форм в генеративной грамматике Н. Хомского («лингвистическое дерево»). Но главное – оно символизировало для Розанова непреходящие ценности Вифлеема: род, семью, домашний очаг, деторождение, материнство, отцовство и т.п. Интересно отметить, что и «пол в человеке» эссеист уподоблял «зачарованному лесу»: «Да, пол – это таинственный лес» [Там же: 6, с. 352], в шумящей листве которого слышится «неустанный шум» истории [Там же: 28, с. 213].
И все же Розанов не стал безусловным апологетом великой культуры Дерева, приверженцем одних лишь классических стволовых структур. Он оттолкнулся от них. Имеется в виду присущая данному глаголу семантическая эквивокативность: не двусмысленность, но двуосмысленность. С одной стороны, отталкиваться – значит опираться на что-то, исходить из чего-либо, положить в основу; с другой – отстраниться , удалиться , отодвинуться (об эквивокации в аспекте тропологии [8]). В результате этого на фоне безусловного пиетета к древовидности ярко проявляется ризоморфность розановского феномена, обострявшая pro и contra .
В высшей степени показательна в данном отношении самопрезентация Розанова. Отметим сразу: этот акт самовыражения беспрецедентен у него именно потому, что эссеист менее всего считал своей целью создание однозначного, тем более благоприятного впечатления на публику. Скорее наоборот: «С выпученными глазами и облизывающийся – вот я. Некрасиво? Что делать?» [11: 30, с. 192]. Разделяя общество на людей, которые рождаются «ладно» и «не ладно», Розанов относил себя ко второй категории: «Я рожден “не ладно”: и от этого такая странная, колючая биография, но довольно любопытная» [Там же, с. 193]. Или: «Я был в жизни всегда ужасно неуклюжий. Во мне есть ужасное уродство поведения, до неумения “встать” и “сесть”. Просто, не знаю как » [Там же, с. 44].
Современники, смущенные (а иногда и возмущенные) подобными признаниями, открыто появляющимися в публичном пространстве, не считали нужным церемониться и не стремились вникнуть в тонкости скандального речевого поведения. Но были и вполне успешные, хотя и единичные, попытки. Литературный критик А.С. Глинка (псевдоним Волжский), высоко оценивая «чувствующий ум» Розанова и называя его «мыслителем-кладоискателем», характеризовал его манеру письма следующим образом: «Он не просто разматывает нить своих мыслей с большого и цельного клубка, а составляет по ниточкам, уснащает узелками, петельками, рвет и обкусывает нитку, снова крутит, снова завязывает, разматывает и опять спутывает, чтобы снова разрывать, навязывать маленькими, меленькими узелками, цепкими, оригинальными. Он не идет по основной нити развития своей темы. <…> Все неровно и нервно в нем» [4, с. 425].
Оборванные и обкусанные нити, их путаница, беспорядочное множество узелков и петелек, изгибы мысли и ускользание в сторону – все это не что иное, как обозначение структурной ризоматичности. Аналогичным было у писателя и ощущение собственного «я»: «Душа моя как расплетающаяся нить. <…> Вся “разлезается”, и ничего ею укрепить нельзя» [11: 30, с. 312].
Создается впечатление, что автор играет и с разными ипостасями своего «я», и с читательскими ожиданиями, а главное с предметами и явлениями ускользающего, раздерганного, децентрированного бытия. Идеи приходили спонтанно, в любое время суток: утром после чтения газет , за ужином на даче , ночью на извозчике ; в любой ситуации – за истреблением комаров , в давке трамвая , у постели больной мамы, за нумизматикой и т.п. Записи делались наспех – на поданной почтовой квитанции , даже на подошве туфли . Наибольшей продуктивностью отличалась конка: «Конку трясет, меня трясет, мозг трясется, и из мозга вытрясаются мысли» [Там же, с. 352].
Подобными ремарками и заявлениями пестрят «Мимолетное», «Опавшие листья», «Уединенное», «Сахарна». Получается, что Розанов вынужден был разбираться в оттенках своих измышлений и настроений в хаосе жизненных впечатлений, что создавало ощущение внешнего и внутреннего «бедлама», усиливало состояние отчужденности: «я нигде не “свой”. <…> И вся жизнь моя есть поиски: “Где же мое” » [Там же, с. 116].
Если в оценке своих немногочисленных почитателей и многочисленных противников Розанов, как правило, исходил из наличия (или отсутствия) нравственно-психологической доминанты (ствола), то в его самохарактеристиках преобладала не древесно-стволовая вертикаль, а горизонтально расползшиеся нитевидные корни-щупальца: «– Да просто я не имею формы (causaformalis Аристотеля). Какой-то “комок” или “мочалка”» [Там же, с. 20]; «Все увязало в моей бесформенности (как охотник в болоте)» [Там же, с. 322]; «Душа моя какая-то путаница, из которой я не умею вытащить ногу» [Там же, с. 119]. «И сам себя растрепал, и “укатали горки ”» [Там же, с. 129].
Мочалка, клубок растрепанных и спутанных нитей, мох, водоросли, лишаи, травянистая растительность, древесное корневище, луковица, кочан капусты. Апелляция к этим классическим разновидностям биологической ризомы ( семеро одежек и все без застежек ) сочеталась у Розанова с древесно-стволовой ассоциативностью без малейших элементов противоборства. Так, преклоняясь перед благородством и душевной стойкостью жены, Варвары Дмитриевны Бутягиной, считая ее «нравственным гением» [Там же, с. 346], он с гордостью писал: «Римлянка, славянка, русская <…>. Она – пальма (крепкое дерево). Я – мох. Бог вдруг устлал у гордой пальмы корни “слабым”, влажным мохом» [11: 29, с. 229–230]. В итоге тождество «человек – ТРАВИЕ» [Там же, с. 289] наполнялось позитивной смысловой витальностью наряду с равенством «дерево-человек».
Более того, дерево, как считал Розанов, теряет свое природное совершенство, когда приобщается к стихии человеческой жизни: оно принимает от человека «тень кривизны, лукавства, страха» [Там же: 11, с. 28]. Что же касается ризоматических структур, то они более устойчивы к тлетворному воздействию. Так, в голодный 1918 год Розанов вспоминал, как однажды он попросил дочь вымыть вынутую из грязи луковицу, но затем, «изнеможенный», подумал: «однако ведь она вся “слоиками отделяется”» и под грязным верхним слоем открывается белоснежная чистота. «Я и беду людей измеряю мокрою репкою (лук репчатый, т. е. этими репками, прослойками )» [Там же: 12, с. 178].
И дело не только в пищевых измышлениях изнуренного голодом человека. Автор с подлинным восхищением как истинные образцы «прекрасного в России» описывал ассортимент петербургского зеленщика: «Рыжики, грузди, какие-то вроде яблочков, брусника. <…> И испанские громадные луковицы. И образцы капусты. И нити белых грибов на косяке двери» [Там же: 30, с. 85]. А «грибная лавка» в первый день поста приравнивалась им к «лучшей странице» исторических сочинений В.О. Ключевского [Там же].
Аксиологической доминантой содержание было заложено и в связке «грибной» / «не грибной» человек [Там же: 29, с. 255]. «“Нашего поля ягода”, – только все-таки грибов и мхов не понимал», – сказано о искусствоведе В.Е. Гиацинтове, профессоре Московского университета [Там же, с. 273]. И напротив, приводя факт, свидетельствующей о конъюнктурности Д.С. Мережковского, Розанов саркастически заметил: «даже не знает, у кого лизать пятки, – только бы лизать. Суть всего. Но ведь и гнилой гриб не знает, куда ему свесить голову, на север или юг» [Там же: 2, с. 115]. Нарушителями Божьей воли и благодати эссеист считал «великих личностей», от которых «становится потно, нудно, шумливо, тесно, во всех отношениях несносно»: «Бог уродил белые грибы в лесу. Пришел “великий человек”, повалил корзины, собранные нами, и закричал: – Собирайтесь все в поход. Думаю завоевать Азию. <…> – Друг мой Наполеон. <…> И после тебя тоже “будут собирать грибы”. Зачем же ты ронял корзины?». Отсюда заключение: «Собирание грибов выше, и лучше, и чище Наполеона» [Там же: 2, с. 80]. Щупальца-придатки проникали даже в «тайно тайных» – творческий процесс, ибо работать над корректурой значило «собирать грибы» и «раздвигать пальцами водоросли» [Там же: 29, с. 273].
Но особенно любопытен тот факт, что в парадигме «растительных» координат прочитывается интереснейшая страница истории русской религиозной мысли: напряженный диалог с П.А. Флоренским. Общеизвестно, что Розанов был не только далек от догматического богословия, но и не скупился на нелицеприятные отзывы о некоторых представителях духовенства. «Около церковного сердца», «Около трудных религиозных тем», «Около церковных стен» – эти названия розановских трудов точно характеризует авторскую стратегию: быть «около службы Божией» [Там же: 11, с. 54]. «Истину выражает странное “на пороге”, “от церкви не отхожу” и “в церковь не вхожу”, что-то промежуточное», – писал Розанов Флоренскому в 1912 году [Там же: 29, с. 285].
И, напротив, для Флоренского, священника Русской православной церкви, «строгости церковные » [Там же: 30, с. 298] были неприкосновенны, что, конечно, не исключало неординарности его философских воззрений. Розанов справедливо утверждал, что «Столп и утверждение истины» в равной степени принадлежит богословию, философии и литературе и что самым важным в трактате является «я», «человек» [Там же: 2, с. 148].
Двух замечательных мыслителей неизменно тянуло друг к другу. «Наше сходство, глубочайшее, и наше расхождение, тоже глубочайшее», – отмечал Флоренский и пытался воспроизвести этапы своего личностного становления в стиле собеседника. Так, говоря о многослойности «основных стихий души», он называл «первый слой» грибным, сырым, «водяным». «С детства во мне жило влечение к таинственному. Символически это таинственное собиралось в грибах, папоротниках, лишаях, мхах, водорослях» [Там же: 29, с. 24].
Однако в целом интеллектуально-эмоциональная ризоматичность была чужда философу-богослову: «У меня интересы очень разносторонни, но все сводится к одному центру» [Там же, с. 25], поэтому процесс взросления был связан для него с повышением интереса к «луковичным растениям». «Меня влекли и корни, клубни, луковицы, все то, что сокрыто в сырой земле, в перегное, в гумусе земном» [Там же, с. 24].
В процессе анализа переписки, в полной мере доносящей пафос вдохновенного обсуждения актуальных вопросов русской жизни, четко вырисовывается оппозиционная пара: гриб / репа . И хотя Розанов как-то мимоходом обмолвился, что натура Флоренского «ползучая» («Он ползет, как корни дерева в земле» [11: 30, с. 109]), философ-богослов был для него «корнеплодным, как репа» [Там же: 29, с. 229].
По сути метафора ризомы явилась основой размышлений Розанова о своеобразии русского национального духа: «”Корни” нашей жизни протягиваются всюду: они уходят к Богу, они уходят в поэзию, они трогают загробный мир, они, наконец, сплетаются с корнями же всего органического живого мира, растительного и животного» [Там же:
-
19, с. 273]. С этих же позиций он призывал терпимо относиться к раскольникам и сектантам – «неотесаным», расплывшимся, расползшимся по русской земле («Психология русского раскола»).
Флоренскому, конечно, была понятна несостоятельность некоторых суждений, но, чаще оспаривая их, чем соглашаясь, он неизменно подчеркивал уникальность Розанова – «гения от рождения», человека «совсем неполированного» [Там же: 29, с. 9].
Отзывы Флоренского, как, впрочем, и некоторых современников Розанова-мыслителя, поражавшихся его стилистическим мастерством, напрямую выводят на современные проблемы коммуникации, в частности, на феномен русского письма : письма как события [5, с. 101–110]. И поскольку сам автор видел в стиле синтез «духовной организации писателя и его судьбы» [11: 28, с. 20], естественно ставить вопрос о наличии в его речевом поведении ризоматической составляющей.
Не случайно Розанов не торопился опровергать упреки недоброжелателей в непоследовательности умозаключений, их противоречивости, отсутствии элементарной логики. Напротив, он как будто дразня своих оппонентов, соглашался с критикой: «Я сам “убеждения” менял как перчатки, и гораздо больше интересовался калошами (крепки ли), чем убеждениями (своими и чужими)» [Там же: 30, с. 136]. Выражение «семь пятниц на неделе» точно объясняет эту позицию: «как ни сядешь, чтобы написать то-то, сядешь и напишешь совсем другое » [Там же, с. 8]; «Я сам себя не знаю. И ни об одном предмете не имею одного мнения» [Там же: 20, c. 419]. «Запутался мой ум, совершенно запутался...» [Там же: 30, с. 54].
Но Розанов не только сам путался в своих умозаключениях; еще более он любил путать окружающих, которым путем многочисленных проб и ошибок, предположений и гипотез приходилось бродить по искусно созданному словесному лабиринту, в нашем сознании ассоциирующемуся с библиотекой из романа У. Эко «Имя розы», т.е. с лабиринтом- ризомой. Напомним, что под последним итальянский писатель имел в виду конструкцию, где «нет центра, нет периферии, нет выхода», а существует лишь «пространство догадки» [14, с. 63].
И тем не менее сказанного недостаточно. Путаясь и путая, Розанов все-таки придерживался ариадниной нити, конец которой время от времени милосердно бросал своим почитателям. В частности, он характеризовал «дар письма» как дар «вникать в вещи», представлять их «и враздробь, и в обобщении, в связи, в панораме» [11: 4, с. 431]. А это значит, что имелся в виду не только зафиксированный текст ( от и до ), но и гипертекстовая надстройка.
Проанализируем с этой точки зрения фрагмент, выдержанный в традиции свободного стиха (верлибра). Как-то , в очередной раз играя с самим собой, писатель прибегнул к привычному для него зооморфизму: «Обыватели – заяц, Розанов» [Там же: 11, с. 126]. Это отождествление получило развитие в поэтическом четверостишии: « Зорька – и мысль. / Другая зорька – другая мысль. / Калоши – валятся… / Мысли – валятся. / Калоши – в дырах. / В мыслях – ошибки. / И отлично. Капустка все-таки растет, “с ошибками или без ошибок”, и заяц так обеими лапками и загребает в рот » [Там же: 2, с. 96].
Перед нами вовсе не образец поэзии абсурда или детской поэзии, хотя согласимся, что заяц, загребающий «обеими лапками» капустные листья, выглядит как клип из мультипликационного фильма. Цель головоломного отождествления предметной конкретики ( Калоши – валятся ) и отвлеченных понятий ( Мысли – валятся ) иная. Она четко сформулирована Розановым в предпосланной стихотворному тексту ремарке: «И вот объяснение, что душа моя путаница и как разлезающаяся нить. “Притом бумажная”» [Там же, с. 96].
Получается, что путаница и разлезающаяся бумажная нить не что иное как содержательный наполнитель хлипкой и ненадежной душевной конструкции – авторско- 166
го «я», лишенного стержневой вертикали. Иначе говоря, прочитанный в таком ракурсе текст в очередной раз демонстрирует ризоматический смысл авторской самоаттестации.
Далее следует обратить внимание и на функциональную направленность поэтических образов. Переход от калош к мыслям действительно выходит за пределы логической, тем более причинно-следственной связи, но последнее и не столь существенно, как несущественны в силу заменяемости сами реалии. Прохудившиеся калоши аналогичны другой непригодной к употреблению вещи (дырявый зонт, вымокшая одежда), а своеобразный брендовый ход Розанова, уподобление с зайцем, тоже легко варьируется: «Играют же собаки во дворе. И я “собака Божия”» [11: 8, с. 166]. «Странно, сколько животных во мне жило»: шакал, тигр, благородная лань, «вымистая» корова [Там же: 4, с. 194], а еще были свинья, лошадь. «Что-то течет в душе. Вечно. Постоянно. Что? Почему? Кто знает? – меньше всего автор» [Там же: 30, с. 13].
Чтобы не стать пленником такой сумбурной и нелепой ментально-образной текучести, необходимо понять и принять розановскую подсказку: ориентироваться не на линейную пошаговую траекторию (от входа к центру и от центра к выходу), но обозреть неустойчивую подвижную конструкцию под панорамным углом зрения, как и подсказывал автор. Только в этом случае рельеф мысли предстанет в топологической целостности, подобно горному хребту с высоты птичьего полета.
«“Самый полет” – вот моя жизнь» [Там же: 30, с. 77], – писал Розанов, доказывая, что мир создан «по началу кривых линий», поэтому «самая суть мира, его интимное и душа» – «неуловимость» [Там же: 2, с. 81]. Целесообразно использовать и кинематографическое понятие полиэкранность как способ объединения разнонаправленных и разноприродных образных потоков в мегамысловое пространство.
«Сколько можно иметь мнений, мыслей о предмете?» – вопрошал Розанов. И сам себе отвечал: «Сколько угодно <...>. Сколько есть мыслей в самом предмете <…>. Где же истина? В полноте всех мыслей. Разом» [Там же: 4, с. 571]. Ключевое слово – разом .
Более того, из авторского «я», наполненного «страшным развитием чувства кос-могонизма» [Там же: 17, с. 354], проистекают многоликость, многофункциональность и парадоксальное неравенство самому себе. В самом деле, Розанов неоднократно подчеркивал полноту и безграничность личного присутствия в мире: «Как можно, что вот Я ЕСТЬ и в то же время Я > Я» [Там же: 12, с. 300]. В одном из выпусков «Апокалипсиса нашего времени» он сопровождает свои размышления воспроизведением разговора с подростком-сыном. На вопрос сына: «– Нет ли такого чего, что было бы больше самого себя?», подумав, отец отвечает: «– Да как же: у меня – ты да дома три дочери, с которыми ты все ссоришься, да Вера – в монастыре. Всех вас бы не было без меня: между тем впятером вы больше меня. Значит, Я есть ТОЛЬКО «Я», но как принять это во внимание: то Я и “БОЛЬШЕ СЕБЯ”. Смышленый мальчик согласился: “– Да. Это правда”» [Там же, с. 303]. Суждение: «И “я”, хотя выражено в одной букве, заключает весь алфавит от “А” до “V” <ижица>» [11: 9, с. 42], – содержит аналогичную мысль.
Из этого следует, что человек действительно может быть больше самого себя, если акцент переносится с сущностного ядра личности на ее отношения к миру и с миром, о чем говорит метафора ризомы. Обрести себя во множестве лиц и личин может только ризоматическая личность, обладающая космическим сознанием. В результате этого и выпала на долю Розанова возможность одновременно ( разом ) исполнять роли консерватора и разрушителя нравственности, врага Церкви и охранителя православных устоев, юродивого и гения и при этом остаться самим собой. А.М. Ремизов, близко соприкоснувшийся с философом, так определил его натуру: «Человек измеряется в высоту и ширину. А есть и еще мера – рост боковой. <…> Но без этого Розанов – не Розанов» [10, с. 6].
В результате этого просто и естественно рушится тождество А равно А, лежащее в основе формальной логики. По мнению Розанова, противоречия «не нужно прими- рять: а оставлять именно противоречиями, во всем их пламени и кусательности <…>. Пусть “да” лезет на “нет” и “нет” вывертывается из-под него и борет “подножку”» [11: 11, с. 58].
А.Н. Николюкин в статье «Как мыслил Розанов» писал о его «экзистенциальном протеизме» [9, с. 68]. В.В. Бибихин назвал творческую лабораторию писателя «школой открытой мысли» [2, с. 52]. Очевидны и точки сближения с паранепротиворечи-вой (воображаемой) логикой Н.А. Васильева, последователя Н.И. Лобачевского, к которому Розанов испытывал истинный пиетет. Но в аспекте поставленной темы, как нам представляется, наиболее целесообразно говорить о ризоматической логике , которую некоторые ученые рассматривают как инструмент для построения научной парадигмы XXI века [13].
Но речь идет не только о системе научных дефиниций. В.В. Розанов, как бы адекватно он ни отвечал запросам сегодняшнего дня, – все-таки мыслитель Серебряного века, разделивший не только его блеск и славу, но и «болезнь», названную А. Блоком «проклятой иронией». Перед ее «лицом», – утверждал поэт, – все равно: «добро и зло, ясное небо и вонючая яма, Беатриче Данте и Недотыкомка Сологуба» [3, с. 346]. Видимо, и нам, не лукавя, следует признать: губительное дыхание разлагающего смеха коснулось и Розанова, что также явствует из его нередко провокационных и неудобочитаемых откровений: «Суть-то в том, что ведь я никак не могу избыть из себя проститутку <…>. Люблю вонь и розу, Господи: но разве нет. Создам и вонь, и розу» [11: 11, с. 239]. И в то же время, отнюдь не оправдываясь, Розанов мог бы сочувственно процитировать стихи Иннокентия Анненского: «А если грязь и низость – только мука // По где-то там сияющей красе» [1, с. 103].
В свете сказанного было бы неверно отождествлять эмоционально-психологическую текучесть с индифферентностью: «Болит душа, болит душа, болит душа... <…> Но только при боли я и согласен жить» [11: 30, с. 62]. В очередной раз подчеркнув свою слабость («как слабы ноги»), Розанов добавлял: «Голова моя качается под облаками» [Там же, с. 59].
Разумеется, в какие-то моменты истина действительно представлялась ему раздерганной, раздробленной, низложенной: «Я весь в корнях, между корнями. “Верхушка дерева” – мне совершенно непонятно (непонятна эта ситуация)» [Там же, с. 184]. Но при этом со всей остротой вставал вопрос о вечных и неколебимых жизненных ценностях. «Я мотаюсь “около службы Божией”» [11: 11, с. 54], – записывал Розанов в дневнике от 16 марта 1916 г., а месяцем раньше исповедально признавался: «Господи. Я не вижу Тебя. Я не знаю Тебя. Но я люблю только Тебя» [Там же, с. 33]. На вопрошение, обращенное к самому себе: «Как ты хочешь умереть? Твое последнее слово людям?» – отвечал: «ЛЮБЛЮ» [Там же: 2, с. 282]. А такое умозаключение можно считать резюмирующей автопрезентацией: «Ну, Розанов: от тебя “легкий дух”? / Я думаю – легкий. Я в сущности хороший человек (хоть в голове и много вшей). / У меня в сердце хорошо – это я знаю» [Там же, с. 189].
Таким образом, феномен Василия Розанова во всех своих проявлениях и прежде всего в формате самоидентификации предполагает осмысление философско-религиозных, логико-психологических и этико-эстетических вопросов в их уникальном симбиозе и художественной перспективе.